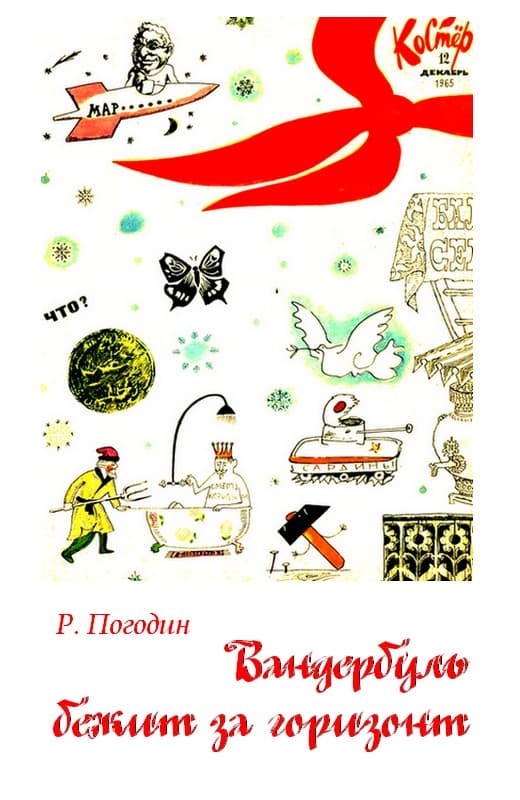Югославию. В партизанский отряд к командиру товарищу Вылко Иляшевичу.
Ветер шумел в подворотне, холодил мокрые спины.
— Скоро дождь кончится, — сказал Вандербуль, — сильный дождь — короткий. А на которой войне вам всех больнее пришлось?
Старик посмотрел на Вандербуля затосковавшими вдруг глазами.
— На последней… Дюже далеко на нашу территорию немец прошел.
— Я у вас про другую боль спрашиваю, — сказал Вандербуль.
— Всякая боль — боль. Я ж тебе расскажу. Имеется у меня знакомец. Он до войны служил моряком. Имел он в себе гордость от своего моряцкого звания, от своего уж немолодого возраста, от своей силы в мускулах и от своего веселого нрава. Плавал мой знакомый товарищ шкипером на баржах. У баржи ход медленный. Зато дюже большой простор для глаз. По берегам жизнь. Лесные породы друг друга теснят. Травы зеленые в воду лезут. И под килем жизнь: лещи, окунье, букашки, словом, разнообразное подводное царство.
А что касается людей береговых — мой знакомец для них лучший друг. Он им необходимый фабричный товар привозит, киномеханика, книжки. У них забирает картошку, хлеб, тёс, постное масло, рыбу, лесную ягоду, грибы.
Жена моему сотоварищу досталась под стать — красивая. Такую и во сне не всякий увидит. Принялась она плавать с ним на барже в должности кока. И за матроса могла. А как заведет песню под вечер — по берегам парни млеют, плачут про себя, что такая красавица мимо них по воде уплывает.
Мой знакомец и его молодая жена загадали себе на будущее двух ребятишек, ибо без ребятишек людям жить невозможно. Одни монахи без ребятишек могут. Они же ж, монахи — ни богу свечка, ни черту кочерга. Они для дури живут и то маются.
Мой знакомец и его молодая жена загадали себе ребятишек и не сбылось.
В сорок первом году, как война принялась, они вывозили из Выборга беженцев. Когда люди спасаются от беды, они в первую очередь детей хватают, чтобы не кончалась на свете жизнь. И стариков, чтобы сохранилась на свете память.
У моего сотоварища на барже всё женщины с ребятишками да старые матери-бабки.
Шли ночью. Хоть и светлая, а все ночь. Уже Кронштадт — спасение ихнее — вот он, из воды торчит. Беда на беду ложится — у моего сотоварища на барже лопнул буксирный трос. Баржу разворачивает волной. Волна та накатистая шла, гонит баржу на мелкое место. Буксиру повернуть невозможно, бо у него на гаке еще две баржи с народом. Переговорили, как положено морякам, на сигнальном морском языке — порешили. Пошел буксир в Кронштадт, а мой знакомец якоря бросил. Ждут люди, когда буксир за ними обратно вернется, спокойно ждут, без паники, бо тут паники быть не должно. Дети спят, женщины дремлют. Бабки совсем без сна, они мало за свою жизнь спали, а к старости и совсем разучились.
Мой сотоварищ на носу был, с буксирным тросом занимался. Жена его у надстройки. Там она тент приладила ситцевый в красную розочку, чтобы ребятишкам в тени спать, когда солнце встанет.
Замечал, когда солнце над морем еще не поднялось — облака розовые? Будто перьями по всему небу. А вода темная.
В этот час оно и случилось. Прямо из розовых облаков спустились они со своими бомбами. За сто верст видать — груз не военный — мирные женщины с ребятишками. А они ж налетели, будто на крейсер.
Вода от взрывов, как пиво, вверх лезет.
Ребятишки в рев — какая у ребятишек защита? Жмутся под ситцевый тент и ревут.
Мой сотоварищ бросился на помощь бежать. Взрывом оторвало палубную обшивку. Свернуло трубой. Запеленало его в эту трубу. Сперва сознание от него ушло, мабудь, на целую минуту. А когда возвратилось, он вокруг глянул. Баржу перерубило на две половины, и каждая половина тонет сама по себе. А между ними народ тонет.
Мон сотоварищ рвется из железных своих пеленок — рукой не шевельнуть, как в клешах. А народ тонет. Ребятишки тонут. Женщины прилаживают их к плавучим обломкам, может, продержатся, пока помощь поспеет, может, прибьет волной к берегу…
А не прибьет их волной к берегу — сверху их из пулеметов топят. Взрослый мужик молча старается умереть. Ребятишки; они же теснятся друг к дружке и плачут, они смерти не понимают. И вот в этой беде моему сотоварищу все эти ребятишки его родными детьми показались. Он закричал. Зовет их. А что пустой крик в море?
Такая есть боль — когда жена, когда дети на твоих глазах тонут и их вдобавок из пулеметов бьют, а ты им помочь не умеешь.
Он кричал летчикам: «Гады вонючие, в меня цельте, вот я!» Голову высунет из трубы, чтобы в него попало. А не попало — все в железо да в железо.
Корма с надстройкой ушла под воду быстро. Носовая часть встала торчком — не тонет дальше. Может быть, на грунт встала, может быть, воздух скопился в самом носу. Мой знакомец над водой повис. В лицо ему волна тычет.
Море опустело. Узлы, плавучие ящики, чемоданы унесло к берегу. Только тент ситцевый, под которым ребятишки прятались, плавает.
Мой знакомец долго кричал в пустое море. Плакал один. И когда его вытащили из железа матросы с морского охотника, он кричал, ребятишек звал. Не хотел он жить.
И в госпитале кричал. Свесится с койки к полу, его же ж привязывали, и кричит — зовет ребятишек.
А никто ему не откликнется…
Дождь гудел на асфальте. Было совсем не понятно, как может небо скопить в себе столько воды. Удивленные люди уже не пытались перебегать улиц.
Автобусы проплывали мимо, не отворяя дверей.
— Я у вас про физическую боль спрашивал, — сказал Вандербуль старику.
— Это ж она и есть, самая наитяжелая физическая боль. И воздух вокруг, а дышать нечем. И ухватиться не за что, а если и ухватишься, оно, как трухлявое дерево, под рукой сыплется. И ты будто воешь, а звуку твоего не слышно… Когда через неделю мой сотоварищ очнулся в госпитале, узнал от главного врача, что нога у него сломана, два ребра смяты и ключица наружу, не считая нарушения внутренних органов.
«Это во мне враз заживет, — сказал он врачу. — От этого я не дюже страдаю. Я теперь такой человек, что даже смертельную боль приму спокойно и независимо от прожитых годов».
— Может, вы про себя рассказывали? — спросил Вандербуль.
Старик усмехнулся, посмотрел на свои бурые, словно сплетенные из шнурков руки.
— У меня своя биография, у него своя.
Дождь ударил