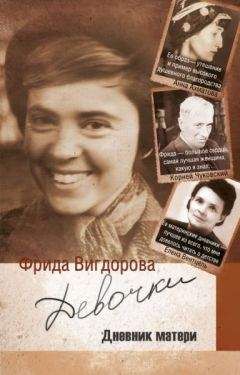– Вот тебе, Андрюша, карандаш и бумага, напиши на этом листке сочинение на тему: «Чем ночь темней, тем ярче звезды».
– А можно стихами? – спрашивает Андрей.
– Ты можешь стихами? – почти подобострастно произносит Ракова.
– Могу. Погодите минуточку.
– Да, да, я жду!
Я тоже жду. Минут через пять Андрей с чувством декламирует:
И чем слышнее крик глупцов,
Чем злоба их пылает жарче.
Тем громче голос мудрецов:
Чем ночь темней, тем звезды ярче!
46. ЧТО ОНИ ЗНАЮТ О ДЕТЯХ?
– Очень, очень интересные результаты! – говорит вечером Ракова. – Но не слишком утешительные. Почти у всех ваших детей эмоциональная сфера развита гораздо, гораздо ниже нормы. Кроме Репина, конечно.
– Мотивы большинства поступков очень далеки от нормальных принципиальных суждений, – добавляет Грачевский. – Такие их суждения, как «воровать нельзя – сажают в тюрьму», показывают, что они являются полными утилитаристами. Мои наблюдения над несовершеннолетними, шаблоны поведения которых упорно и длительно отклоняются от требований, предъявляемых им обществом и государством, показывают, что из вкусо-обонятельных гиперэмоций наиболее часто встречается страсть к лакомствам, вину, курению…
– Простите, а кто же это у нас такой – со вкусо-обонятельной гиперэмоцией? – Екатерина Ивановна недоуменно хмурится, косая складка прорезает ее лоб.
– Кто? Да многие… – Грачевский склонился над протоколом. – Вот, например, Леонид Петров – типичный гиперэмоциональный субъект. На вопрос, любит ли сладости, он ответил: «Да». Из перечня книжных заглавий выбрал «Волшебную кухню». Из предложенных картинок пожелал иметь вот эту – видите, накрытый стол, блюдо с фруктами.
Я поспешно выхватил платок из кармана и усиленно закашлял, пригнувшись к коленям и пряча лицо.
– Господи! – всплеснув руками, говорит Екатерина Ивановна. – Леня Петров! Да он готов последним поделиться! Он курам свою еду скармливал.
– Курам? – недоуменно переспрашивает Грачевский и пожимает плечами.
Отдышавшись, просматриваю картинки, которые предлагались ребятам на выбор. Теперь мне уже не до смеха, но еще сильнее хочется выругаться. Драка. Картежная игра. Выпивка. Перекошенные, уродливые лица. «Безобразие всякое нарисовано», – вспоминаю я вчерашние Санины слова.
– Да это просто провокация! – не выдерживаю я. – Показываете ребятам такую мерзость!
– Признаться, и я не понимаю, зачем это нужно! – с возмущением говорит Алексей Саввич.
– Но позвольте! – обиженно восклицает Ракова. – Нет, товарищи, учебный и воспитательный процессы у вас совершенно не педологизированы, совершенно!
– Скажите, – вдруг произносит Грачевский, – правду мне говорили, что вы – воспитанник украинского педагога… как это его фамилия…
Я не прихожу на помощь, совершенно уверенный, что Грачевский помнит не только фамилию, но и имя и отчество, а пожалуй, и год рождения, и семейное положение, и все прочее, что касается моего учителя.
– Ну… у него опубликована в мартовской книжке альманаха повесть под таким странным названием… «Педагогическая поэма» как будто… Так вы – ученик Макаренко?
– Да, я ученик Макаренко.
– Тогда все понятно, – говорит Грачевский, и впервые в его глазах я вижу отчетливо выраженное чувство.
Чувство это – ненависть. Да, ненависть. До сих пор он все шелестел своим бесцветным голосом и смотрел на всех своими бесцветными глазами.без чувства, без выражения. А сейчас, по крайней мере, я уверен, что он умеет ненавидеть – правда, не открыто, не прямо, но изо всех своих сил! Минута проходит в молчании.
– Так вот, – снова начинает Грачев-ский, – мы с Татьяной Васильевной пришли к выводу о целесообразности перевода воспитанника Виктора Панина в дом для умственно отсталых детей.
Наступает тишина. Панин… Да, конечно, он не бог весть какое сокровище: очень запущен, вор, темная душа, немало у нас из-за него было и еще, наверно, немало будет неприятных минут. А все-таки, почему его нужно переводить в дом для умственно отсталых?
Первым нарушает молчание Владимир Михайлович. Никогда я не слышал, чтоб он говорил так сухо, так официально:
– Я решительно протестую против этого предложения. Не знаю, как вы пришли к такому выводу, но я с ним решительно не согласен.
– Но позвольте… – начинает Ракова.
– Не позволю! – вдруг обрывает ее наша тихая Екатерина Ивановна. – Не позволю! Панин учится в моей группе. Он учится плохо, но он нагоняет, и я не вижу в нем никаких признаков умственной отсталости.
– Совершенно с вами согласен. Я решительно против перевода, – вновь повторяет Владимир Михайлович. – Скажу больше: я этого не допущу. – И вдруг, не удержавшись на этой официальной ноте, говорит с сердцем: – Знаете, у Льва Николаевича Толстого сказано: иногда люди думают, что есть положения, когда можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. С вещами это можно: можно рубить деревья, кирпичи делать, железо ковать без любви. А с людьми нельзя обращаться без любви, нельзя, понимаете? Как с пчелами – без осторожности. Таково свойство пчел, понимаете? Верно, конечно, вы себя не можете заставить любить, как можете заставить себя работать. Но это не значит, что можно обращаться с детьми без любви, да еще если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к детям – сиди смирно, занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не детьми… Не детьми, понимаете?.. Этот мальчик…
У меня наметанный слух. Не дожидаясь, пока Владимир Михайлович закончит фразу, выхожу из комнаты и едва успеваю закрыть дверь, чтоб никто, кроме меня, не увидел за нею темную фигуру. Фигура отшатывается и кидается вон из сеней. В два шага нагоняю ее уже на крыльце.
– Постой-ка, – говорю я, хватая беглеца за рукав. – Ты что там делал?
Панин шумно дышит и отвечает не сразу и невпопад:
– Меня заберут?
– Кто это может тебя забрать?
– Вы меня отдадите? – И вдруг, стуча зубами, трижды произносит на одной ноте, как одержимый: – Я не хочу уходить, не хочу уходить, не хочу уходить…
Я не стал напоминать ему, что совсем недавно он сам собирался уйти. Правда, уход уходу рознь. Оказаться в доме для умственно отсталых у него, конечно, не было охоты. Но сейчас – не до длинных разговоров. Я повел Панина в спальню, а он упирался и повторял:
– Идите туда, идите туда, а то там решат…
– Уж если ты стоял под дверью, так, верно, слышал, что говорили Екатерина Ивановна и Владимир Михайлович.
– Я у Екатерины Ивановны третьего дня косынку стащил, шелковую, она знает, она передумает… Идите туда, идите туда…
Все-таки я водворяю его в спальню, бужу Подсолнушкина и строго спрашиваю, почему это члены его отряда бродят по двору после сигнала «спать». Потом возвращаюсь в кабинет. Тут атмосфера накалена до последней степени. Все говорят громко и сердито и, кажется, уже не очень слушают друг друга. Екатерина Ивановна и Владимир Михайлович смотрят на меня с возмущением – как я мог уйти в такую минуту? Не хочу ли я отделаться от Панина?
– Если можно, чуть тише, – говорю я. – Рядом дети спят. Так вот, если вы, Татьяна Васильевна, и вы, Петр Андреевич, остаетесь при своем мнении, пускай нас рассудит гороно.
В гороно этим займется наш инспектор. Я твердо знаю: Зимин сделает так, как мы его попросим. Никуда он мальчишку зря не переведет. Екатерина Ивановна с полуслова понимает меня и вздыхает с облегчением. Но у меня против нее зуб, и позже, провожая ее и Владимира Михайловича домой (я всегда это делаю, когда мы слишком засиживаемся), я говорю:
– Вот что, Екатерина Ивановна: почему вы мне не сказали, что Панин третьего дня стащил у вас косынку?
Она даже останавливается.
– А… а откуда вы знаете? – растерянно спрашивает она.
Владимир Михайлович тоже удивлен. Он неопределенно покашливает и косится на меня. Слишком темно, ему не разглядеть моего лица, и я, признаться, очень доволен, что озадачил их обоих.
А с Екатериной Ивановной это не в первый раз: о половине известных ей шалостей и проступков она умалчивает – видно, бережет ребят от меня!
…На другое утро встречаю на лестнице Леню Петрова. Он поднимается по лестнице со связкой учебников в руках.
– Семен Афанасьевич, – говорит он горестно, – а я-то вчера какого дурака свалял! Мне говорят: «В поезде, если крушение, всегда больше ломается последний вагон. Что тут делать?» А я и говорю: «Оставлять его на станции». А потом хватился – ведь оставляй, не оставляй, все равно какой-нибудь вагон будет последний. Да меня уж и слушать больше не стали. Что ж делать-то теперь?
Я смотрю на живое лицо мальчугана, на умные раскосые глаза – сейчас в них испуг и недоумение, и, больше чем всегда, они делают Леню похожим на зайчонка. А в кабинете у меня лежат предварительные итоги педологического обследования, и там в процентах и дробных числах определена высота эмоционально-этического развития воспитанника Леонида Петрова. По мнению обследователей, этот гиперэмоциональный субъект находится на низшей рефлекторной стадии – она составляет всего 35 процентов нормы.