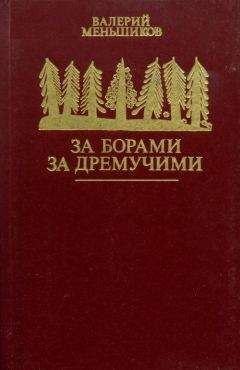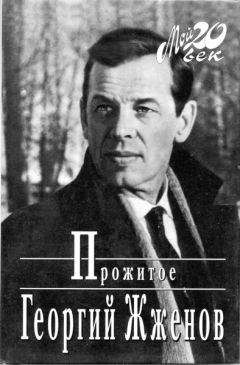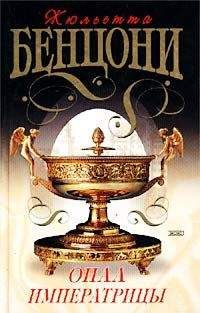Зимой кроме завода ходить некуда, в холода у бабки на улицу не отпросишься, а вот к Богдановым она меня отпускает. Живут они на нашей улице, до них всегда добежишь на одном дыхании, мороз и щеки ущипнуть не успеет.
Изба у Богдановых чистая, беленые потолок, стены, печь лучатся белым светом. Зайдешь к ним да сразу обо всем и забудешь. На улице сугробы подкатились к самым окнам, заплоты по пояс укутали, а здесь — весна. Заглянула, видать, нечаянно в избу да задержалась, разбросала везде яркие цветы. Голубеют нежные анютины глазки, мерцают сахарным сиянием желтоглазые ромашки, отливают сиреневой дымкой ирисы, подрагивают колокольчики купены, жаром полыхают жарки — целые вязки рукотворных цветов развешены вдоль стен, разложены на лавках, букетами расставлены в банках.
Пятеро богданят и немая Нюрка всегда сидят вкруг стола, что-то стригут, крутят, режут, красят. Мне они рады. Особенно Нюрка. Она всплескивает руками, соскакивает с табуретки, миг — и мои одежонки уже развешены, а сам я усажен к столу, заставленному разной посудой с цветными отварами, заваленному бумажной обрезью.
— Мы-ы, мы-ы, — что-то говорит по-своему Нюрка, маячит пальцами. С красивого лица не сходит улыбка. Видя, что я ее не понимаю, сердится, и тогда Ваньша переводит.
— Подрастет, мол, Валерка, возьму его себе в женихи.
— Да ну вас, — порываюсь я подняться, но Нюрка прижимает руку к сердцу, потом к губам — мол, не сердись, я пошутила — и протягивает мне небесный анютин глазок. Зубы у нее белые, ровные, совсем как лепестки сделанных ею ромашек. И я тоже улыбаюсь. Да мне ли сердиться на убогую.
Научилась Нюрка цветочному рукоделью у своей матери, но очень скоро обошла ее в мастерстве. Летом она приносит из леса целые охапки душистых трав, перебирает их, подолгу рассматривает каждый цветочек, откладывает в памяти узор и расцветку. И цветы у нее получаются какие-то радостные, зоревые, но больше с пронзительной небесной просинью. Будто готовит их для невесты к свадьбе, а не печальным украшением на могильные холмики. Сельчане букеты и венки ее работы берут охотно, одаряя сверх платы куском пирога или крашеным яичком.
Цветы богданята мастерят всю зиму, чтобы в родительский день, в одночасье, продать их, а на вырученные деньги приобрести кое-какую одежду, оплатить налоги, раздать долги. А дальше начинают все сначала: собирают консервные банки, куски бумаги, проволоку, тряпки, готовят из кореньев, трав, ягод различные краски. Выхода из этого круга тетя Маня Богданова не видит, с нелегкой жизнью своей смирилась — а у какой многодетной семьи она краше? — и, может, потому не замечает или старается это делать, что ребята и без обувки частенько исчезают из дома в поисках «подножного» корма или вот как Ваньша посещают завалинку, чтобы в веселой круговерти ребячьих забав забыть домашние беды.
Я гляжу, как линза в его руках — дал все-таки Аргат — выжигает на стене последнюю буковку. Вот и еще одна «память»: Ваня Б.
— На сегодня хватит, как бы школу не подпалить, — хозяйски решает Юрка и забирает линзу, поняв, что больше среди собравшихся ребят ничем не разживешься.
— А мы сейчас небольшой пожарчик устроим, — говорит Валька, — а линза у нас и своя найдется. Доставай, Рудик, кулек…
Я замираю от неожиданности. Какой кулек? Какая линза? А Рудька молча растрясает из бумажного кулечка какой-то серый песок. У Вальки в руках уже поблескивает выпуклыми боками самая настоящая линза.
Солнечный зайчик медленно бежит по земле, останавливается на просыпанном Рудькой сером песке, уменьшается в размере, и вдруг на месте светящейся точки рождается огненный фонтанчик; рыжая змейка, шипя, выскальзывает из-под Валькиных ног, стремительно бросается к завалинке.
— Порох, порох! — восторженно кричит кто-то. Я обиженно поджимаю губы, но Рудька шепчет мне на ухо:
— Это Валька дома очки спер, а стекла серой склеил. Чтобы Юрка не задавался да у ребят куски не выманивал. Ох и будет же ему когда мать узнает.
А Валька протягивает ребятам линзу:
— Берите, кому на стене расписаться охота.
И разом стихает моя обида. Когда отдавал Аргату шаньгу, о дружках не подумал. А они вот где-то пороху раздобыли, фейерверк устроили да к тому же принесли самодельную линзу и без всякого хитрого интереса предлагают ее пацанам.
Руку к линзе тянет Котька Селедка, но Валька как бы не замечает его. И не без умысла. В войну нужда многих приучила жить расчетливо и экономно, справедливо подсказывая не есть на виду у других — голодному человеку смотреть на это всегда мучительно. Котька же пренебрегал этим правилом, постоянно что-то жевал, сосал. Рука его незаметно — так ему казалось — отщипывала в кармане какие-то кусочки и отправляла их в рот. Уличали его в этом не раз. Кое-кто, не утерпев, припрашивал:
— Что там у тебя? Дай на жевок.
На что находчивый Котька отвечал:
— Да это у меня в кармане сухарь искрошился, вот я крошки и собираю.
Про сухарь я не знаю, а вот про печенки помню. Пекли мы их как-то на костерке за рекой, накопав, конечно же, набегом в чужом огороде, ели вместе с черными подгоревшими «мундирами», а Котька торопливо выедал горячую рассыпчатую белую сердцевину, оставляя кожурки «на потом». В общем, обжал каждого на две или три картошины, и справедливый Валька не забыл про тот случай. Поэтому не удивляюсь, что он отдает линзу Иванову Кольке.
— Держи, Никола.
Худосочный Колька, с раскосыми татарскими глазами, над которыми клинышком нависает отгоревшая белесая челка, похож на рыже-пеструю бородатую лесную курицу — копалуху. Его так и зовут Копалухой, но вернее всего не за неуловимую схожесть с боровой птицей, а за слабый слух. Колька всегда беспричинно улыбается, может, потому, что многое из сказанного ему непонятно, и он виноватит себя в этом. Его беда живет с ним на пару, и мы, когда он рядом, стараемся говорить громко, растягивая слова, и не называем его Копалухой. Вообще-то в поселке без прозвища не проживешь, потому что все друг о друге знают даже самую малость, подмечают и просмешничают каждый недостаток. Да и как без него. Будто не человек ты, а какая-то половинка. У другого и фамилию, и имя позабудут, до того прозвище удобное, для языка гладкое. Пристанет оно к человеку липучей смолой в неулыбчивую для него минуту да и тащится за ним постоянной тенью. Иногда оно рождается случайно от удачно брошенного слова, искоркой вспыхнувшего на языке острослова, но чаще передается по наследству от родителей детям. Сколько по этому поводу случалось драк, сколько носов расквашено. Известно, что сердца ребят на ветреные словечки отзываются весьма ранимо. И я не раз вскидывался драчливым петухом, услышав обидное для себя слово «черт».
— А чего меня ребята чертякой зовут? — слезливо допытывался я дома. Дед хитровато улыбался:
— Ты вон у бабки выведай, как ее отец Кондратий живым поросенком в половодье проран в тебенякской плотине бутил.
Но та отмахивалась:
— Замолола, меленка. Забиваешь голову ребенку.
И лишь однажды в медовую сенокосную пору, когда коротали мы у костра неприметную августовскую ночь, рассказал мне отец об одной «зарубинке» из своей жизни. Был он молод и до отчаянности горяч. И потому решился однажды на спор преодолеть Ниап в самом широком омутистом месте, которое не каждый с разбегу и переныривал. Да не как-нибудь, а с привязанным к телу неподъемным грузом. Я и сейчас с внутренним ознобом представляю эту картину. Кучкуются на берегу подростки в ожидании «спектакля», на их нетерпеливый гомон подходят взрослые. И вот на противоположном высоком берегу появляется отец. К его спине привязано окованное железом тележное колесо, на голой груди лохматятся концы веревки. Разом все притихли в предчувствии чего-то необыкновенного, до сей поры невиданного. А он, не торопясь, проходит на край «ныряльной» доски. О чем думал отец в ту минуту, рискуя жизнью ради вгорячах сказанного в споре слова, а может, хотел испытать себя этим безрассудным поступком? И было ли ему страшно? Конечно, было. Потому что долго стоял он на конце подрагивающей плахи, смотрел на тесовые крыши домов, на зубчатую кромку голубоватого бора. Будто вбирал в свою память. А потом, глубоко вздохнув, «солдатиком» ушел в темную воду. Кто-то из ребят повел счет, самые нетерпеливые по мелководью пошли навстречу, а отец все не появлялся, и уже пузырьки воздуха перестали лопаться на речной ряби. Позднее, полностью придя в себя, он рассказывал, как сначала «бежал», потом полз по дну, придавленный своей страшной ношей, и донный песок не отпускал, затягивал его, а грудь разрывало от удушья. И все-таки сквозь кровавые разводы увидел он голубое небо. Вот тогда кто-то из взрослых и выдохнул восхищенно это слово: черт. И, конечно же, это испытание помогло ему утвердиться в последующей жизни, бесстрашно ходить в разведку в памятные хакасские годы, ночью переплывать ледяной Чулым, доставляя чоновцам сведения о банде Соловьева. На фотографии тех лет он молод, ослепительно красив, ремни перекрещивают его стройную фигуру, взгляд решителен, а рядом стоит «чертенок», мой родной дядька Иван, которому и лет-то не больше наших, но у него сбоку, как и у отца, висит кобура с настоящим пистолетом. Это их молодость, их горячее времечко. И потому не каждая кличка должна прорастать обидой, некоторыми можно гордиться.