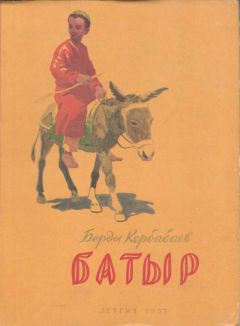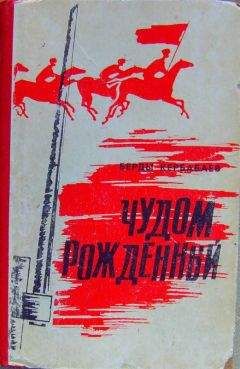—А если я её уговорю?
—Тогда другое дело. Но скажи мне, почему ты решил поступить в Суворовское?
—Хочу отомстить за смерть отца.
—За неё отомстит народ.
—Я хочу сам.
—Ты ещё мал.
—Пока буду учиться в Суворовском, подрасту.
—Война кончится раньше.
—А разве потом не нужно будет защищать Родину?
Седой человек молчит с минуту и ласково смотрит на мальчика, потом спрашивает:
—А тебе не жалко оставить мать?
Мурад опускает голову. Голос его звучит уже не так громко и решительно:
—Жалко... Но если сейчас ей грустно, зато потом будет весело... когда я стану таким, как отец.
—Так, так... — говорит седой человек и покачивает головой. — Ну что ж, Мурад, рад бы тебе помочь, да без согласия твоей матери, сам понимаешь, ничего предпринять не имею права.
—Она согласится, — уверенно говорит Мурад.
Дни текут за днями, с виду совсем похожие друг на друга. Уже три раза прокатывался по небу молодой двурогий месяц. Уже в городе пожухла листва на деревьях от зноя и пыли. Пустынней и тише стало на улицах — ребятишки разъехались по лагерям.
Мурад опять стоит перед большим письменным столом, за которым сидит седой человек с добрыми тёмными глазами. Но на этот раз Мурад пришёл сюда не один. Набат сидит на стуле возле стола и, перебирая пальцами край шали, говорит:
— Ничего не могу с ним поделать, товарищ Сафаров. Вот пришла попросить: пошлите его, если это возможно, в Суворовское училище. Долго мы с ним друг друга уговаривали. Не хотелось мне его отпускать, одиночества боялась. Ведь теперь только он у меня. Уедет — совсем одна останусь. Однако вижу, изменился он очень. Сразу, в один день, словно взрослый стал. И решение принял твёрдое, как взрослый. Не отговоришь — стоит на своём. Думаю, раз так хочет, так стремится и все мысли его об одном, не надо ему препятствовать. Дело-то ведь он доброе задумал.
—Да, дело доброе, — говорит начальник и переводит взгляд с матери на сына. — Что ж, попробуем.
Только много уж очень времени протекло, боюсь, не поздно ли. Долго очень вы его характер испытывали, дорогая товарищ Набат.
Начальник берёт телефонную трубку, и Мурад впивается в него взглядом. Сафаров вызывает военный комиссариат. Что говорит полковник, которому звонит Сафаров,
Мурад, конечно, не слышит — из трубки несётся только приглушённый рокот, — но по вопросам Сафарова и по тому, как он огорчённо покачивает головой, мальчик понимает: дело плохо. Руки его судорожно впиваются в край стула, на который он от волнения присел; он почти перестаёт дышать.
—Вот видишь, Мурад, — говорит Сафаров, кладя трубку, — слишком долго вы с матерью решали этот вопрос. Опоздали вы: приём заявлений в Суворовское училище закончен.
—Как же так?.. — растерянно говорит Мурад. — Занятия же ещё не начались! Не может быть, чтоб поздно. Одного человека всегда можно ещё принять.
—Поздно, Мурад: больше не принимают, закончен набор в этом году. Ну, ты не огорчайся...
—Нет, — говорит Мурад и вскакивает со стула, — если бы был жив отец, он что-нибудь бы сделал. Он бы нашел выход, добился бы. И я добьюсь. Не хотите помочь — не надо, я сам. Поеду в Ташкент, объясню им. Не купите билет—-пешком дойду...
И Мурад бросается к двери. Спокойный, твёрдый голос останавливает его:
— Постой, Мурад, не горячись. Характер у тебя, я вижу, ой-ой! Конечно, настойчивость, упорство — отменные качества, да применять-то их нужно с умом. А так, очертя голову, ты мало чего добьёшься. Прежде всего, скажи мне, какие у тебя оценки по арифметике и географии?
—По арифметике и географии? — озадаченно переспрашивает Мурад, затем отчеканивает, горделиво вскинув голову: — У меня все пятёрки, круглые!
—Все пятёрки? И даже все круглые? Интересно... — Начальник улыбается.— Тогда скажи мне, не боишься ли ты, путешествуя пешком, опоздать в Ташкент к началу учебного года?
Но Мурада не так-то легко сбить с толку.
—На грузовиках подвезут, — с глубоким убеждением отвечает он и снова делает шаг к двери.
—Вот что, товарищ Набат... —- говорит Сафаров и начинает писать на листке бумаги. — Вы с Мурадом подготовьте на всякий случай все необходимые документы. Я вам тут запишу, какие. А я съезжу к полковнику, потолкую с ним, и мы попробуем написать лично начальнику Суворовского училища. Поглядим. Может быть, что-нибудь и выйдет.
Надежда и благодарность вспыхивают во взгляде Мурада. Он молча крепко жмёт протянутую ему на прощанье руку.
Пол вокруг маленького столика в углу усеян листками бумаги. На каждом аккуратным почерком старательно выведено несколько фраз.
Мурад выбегает из-за стола и распахивает дверь на веранду. Щёки его горят, на лице отчаяние. Он не может, никак не может написать то, что задумал. А ему кажется, что от того, как он это напишет, зависит его судьба.
Когда он шёл домой, сердце ликовало у него в груди и всё казалось таким ясным и простым. Он сам напишет заявление начальнику Суворовского училища. Напишет очень аккуратно, чисто, без ошибок, не забудет ни одной запятой, даже двоеточия. Напишет красивыми, хорошо составленными фразами. Мурад старался припомнить, как пишут взрослые такого рода бумаги, но оказалось, что он твёрдо знает только одно: все заявления непременно начинаются со слов: «Ввиду того что...» или «Вследствие...». А дальше уже к этому прибавляют то, что нужно.
Когда он, сев за стол, положил перед собой листок бумаги, взял ручку, придвинул к себе чернильницу и ровным, красивым почерком вывел:
Начальнику Суворовского училища от ученика 5-го класса Назарова Мурада Заявление
Ввиду того что... —
дальше этого дело у него не пошло.
Он прикидывал в уме и так и этак, пробовал по-всякому закончить эту фразу, но что бы он ни писал, всё выходило плохо и совсем не удовлетворяло Мурада. Слова, которые, как огнём, жгли его сердце, ложась на бумагу, становились холодными, неубедительными, мёртвыми. Быть может, это происходило потому, что он старался написать так, чтобы начальник сразу увидел, какой Мурад умный, не по летам развитой мальчик и, не раздумывая долго, принял его в училище. Однако внутреннее чутье подсказывало Мураду, что всё, что он пишет, звучит как-то не по-настоящему. Ему становилось не по себе, и он в сердцах швырял листок под стол.
Мальчика очень подмывало подойти к матери и попросить помочь ему, но он понимал, что это будет уже не то. Нет, он должен сам, сам...
И вот он стоит в узорчатой тени карагача, который растёт у самой веранды и так хорошо затеняет дом. Он стоит, широко расставив ноги, сжав кулаки, словно приготовившись к бою, маленький, упорный, и смотрит вдаль, напряжённо сдвинув брови. Лицо отца встаёт перед его глазами — суровое, доброе, простое. Мурад старается представить себе, как писал бы такое заявление отец, и вдруг ему становится ясно всё. Он чувствует, что набрёл на верный путь. Стоило ему вызвать в памяти образ отца, чтобы одно стало для него несомненным: отец написал бы всё это совсем иначе. Он не стал бы писать никаких заявлений, а написал бы письмо. Совсем просто написал бы — вот так, как писал он Мураду с фронта.
И, облегчённо вздохнув, Мурад возвращается к своему столику.
Сказать вам по правде, друзья, я был даже удивлён, когда увидал, сколько народу пришло на вокзал проводить Мурада.
Ну, само собой разумеется, пришла мать, наша дорогая и уважаемая товарищ Набат. Пришли все соседи, от мала до велика. И товарищи Мурада по школе пришли — все, кто уже вернулся из лагерей. И, представьте, явились даже те, с кем Мурад не очень-то ладил и кто не раз выходил из стычек с ним в довольно плачевном состоянии — с подбитым глазом или расквашенным носом. (Впрочем, это было давно, стоит ли вспоминать!) Пришёл и мой старый друг и бывший однополчанин — товарищ Сафаров.
Глаза Мурада сияли ну прямо как две самые яркие звезды в безлунную ночь. И лишь в последнюю минуту, когда прозвенел звонок и все стали поспешно проталкиваться к нему поближе,
чтобы еще раз обнять его, пожать ему руку, напутствовать добрым словом, заметил я, как затуманился его взор и потемнело лицо. Мурад шагнул к матери, по щекам которой катились слёзы, хотел что-то сказать и вдруг, неожиданно для всех, да, как видно, и для самого себя, очень громко шмыгнул носом и припал головой к её груди. Лица его мне не было видно, но как побагровели его уши и даже тоненькая, смуглая шея!
Но тут товарищ Сафаров пришёл к нему на выручку.
— Ничего, Мурад, не смущайся, — сказал он. — Ты думаешь, твой отец не плакал, когда впервые расставался с матерью?
Раздался свисток паровоза, вагоны стукнулись буферами, медленно повернулись колёса...
Мурад вырвался из материнских объятий, вскочил на площадку вагона, а мы все замахали ему на прощанье — кто платком, кто тюбетейкой.
До свиданья, Мурад! Желаем тебе успеха!