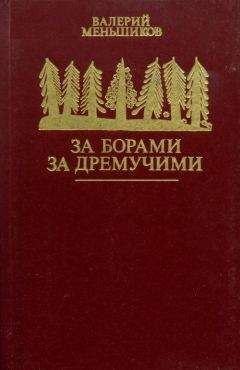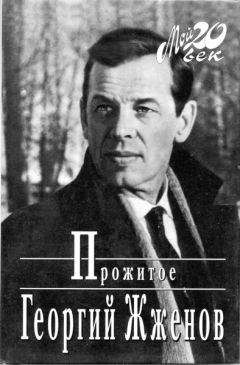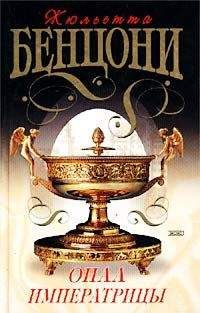Мы с лесом дружим. И потому без нужды не заломаем лишней ветки, не оголим грибную прель, не вытопчем ромашковую полянку. Да и как можно по-иному относиться к другу, от которого видишь одно добро. Вот и Валька осторожно обходит каждый куст, сплетенные пауками тенеты, бережно отстраняет от глаз низко нависшие ветки. Он уверенно забирает влево, спрямляя путь к неближней в этих местах реке.
Подвернулась под ноги узкая затравеневшая дорожка, да тут же истончилась до тропки. А может, и свернула куда незаметно, недоглядел я — ноги мои в надежной обувке, и потому я не разглядываю настороженно траву, глаза поверху, по сторонам елозят. Лес мне всегда в радость и удивление. Каждое свидание с ним вспоминается долго.
Восково-теплые стволы вековых сосен, зеленое кружево кустов, заросли папоротника — места здесь отменно красивые. Благоухает вокруг золотисто-лиловая некось. Воздух ядрено настоян запахами смолы и хвои, грибной прели и перетомившейся земляники. И кажется, что каждая хвоинка источает тепло и набрала столько краски, что, шевельни лапник рукой, брызнет на тебя зеленый дождь. И точно, догнал нас на полпути дождик-сеянец, припудрил влагой плечи. Глянул я вверх — синё, лишь белесый хвост — будто прозрачная дымка — следок от жаркого костерка — зацепился за кроны деревьев. Откуда только и влаги набрал, про нас заготовил?
Дождик теплый, не в тягость. Редко такое увидишь: зеркальной ясности солнце в чистом небе и дождь. И травы разом принарядились, в каждой капельке горит, искрится свое маленькое солнышко, а прямо перед глазами в водяной пыли дрожит невесомый яркоцветный мостик. Радуга! Нет, никакому художнику не написать такой картины — красок не хватит. И настроение наше под стать этой красоте. Забыты горести, одна доброта в душе осталась. Что-то теплое расплескивается по всему моему телу, и мне кажется, что я уже вовсе и не я, а частичка этого леса, живу с ним одним дыханием, радуюсь вместе с ним наступившему утру, раскаленному добела солнцу и этому, неведомо откуда просыпавшемуся на землю дождю…
Валька молчит, но затаенно улыбается чему-то. А Рудька — у него недавно выпал передний зуб — ловко насвистывает через дырку нашу любимую песню:
«Там вдали за рекой догорали огни…»
«Эх, ты, глаз-косоглаз!» — думаю я о друге. За прошедшую зиму он как-то незаметно вытянулся и ощутимо обогнал нас в росте. «В кость пошел», — говорит о нем моя бабка, которая еще молодым знавала его отца. Да и как не знать, когда они с моим батяней еще в гражданскую из одного котелка ели-пили, одной шинелькой укрывались. «Наш-то, как сбитень, росточку среднего, а выше его зародов никто не метывал. На месте не усидит, весь на ходу, посмотришь — будто бежать куда навострился. А Рудькин Михайло словно задумался о чем. А о чем, не поймешь. Все говорят, а он молчит, других слушает. Но если слово ввернет, то всегда впопад. Не сорил зря словами. А вот статью в кого пошел, не поймешь. Я ведь Рудькиных и деда с бабкой знавала, оба не из тех, кто толпу плечом раздвинут. А Михайло в женихах вымахал под притолоку. Рубаху сошьют — рукава расползаются. Многие девки глаз на него ложили, а он Рудькину мать выбрал. Сирота, ни кола, ни двора, ни юбчонки доброй. Да разве в таком деле кого слушают. Шибанула кровь в головушку и… прощай, молодечество. А Рудька в папаню ударился, мослатый. Ты дружи с ним, порода надежная. Сторонних словом худым не зацепили, и дурное к ним не пристало. А что победней кого по жизни шагают, не беда — зато живут по совести. Каждый гвоздь в хозяйстве своими руками вколочен. А ведь начинали на голом месте. У всякого ли руки подымутся?..»
Вот почему Рудька, сколь я себя помню, всегда в моих дружках-сотоварищах. Все печали и радости пополам делим.
Рудька, будто угадав мои мысли, протягивает нам с Валькой по огурцу.
— Держите. У реки и воды напьемся.
Огурцы немного горчат: видать, попали теневые, таились на гряде под широкими листьями, и я вздыхаю:
— У Макси Котельникова небось слаще. Огород-то на солнцепеке и колодец рядышком.
— А ты на чужое не зарься, свое потеряешь, — осуждает меня Валька. Крут он не только на словах, но и на деле. Сколько раз думу свою взвесит, лишь ему известно. Но что скажет, как отрежет. Возразить уже нечего. Потому как прав он со всех сторон.
Вот и виноватюсь я запоздало:
— Да мне что, до чужого делов нет совсем. Сейчас у всех огурцов наспело. Это по первости…
— А мне с чужой гряды всегда огурец слаще кажется, — смеется Рудька. Весело так, беззаботно смеется. Забыл, видать, про неокученную картошку. И я не обижаюсь на справедливые Валькины слова. За ранним огурцом он и сам до чужого огорода охотник. Я гляжу на взмокревшую на его спине рубаху и, не утерпев, спрашиваю:
— Валька, чего мы в такую даль забираемся? Порыбалить и здесь можно. Тут и река поглыбже, и омутов больше, чем в верховьях.
Молчит Валька, голову скособенил, прислушивается к чему-то. И правда, журчит где-то неподалеку вода. Но тропа круто уходит в сторону, огибая затравеневшую низинку, а потом опять тянется навстречу солнцу…
Нежно-сиреневые цветы волной подкатывают к нашим ногам. Терпко пахнет багульником. Разомлевшая трава дурманит голову, учащает биение сердца, и мы убыстряем шаг, чтобы скорее миновать это место. С нижнего сука ближайшей сосны медленно снимается глухарь. Валька провожает его завороженным взглядом.
— Скрипач…
— Почему скрипач? — спрашиваю его.
— Перволеток. Петь еще не научился, хыркает только. Такого и палкой сшибить запросто. Рядышком подпускает, любопытничает… Да, улетела жареха.
А мне глухаря жалко. Красивая птица. Пускай живет. Подрастет, лес песней порадует, птенцов копалухе поможет выходить. А без глухаря, без песни его весенней, какой же бор.
Солнце уже печет во всю свою силушку, слепит, и над травами стоит зыбкое марево. В ярком духмяном разливе невольно примечаешь белые колокольчики купены, дымчатую горошину вороньего глаза, нежно-сиреневые лепестки дикой герани.
По-особому красивы таежные травы. И у каждой свой норов, почти любая годится в дело. Только одну надо собирать на рассвете, с росной капелью на листьях, пока пчела не успела испить с цветка нектар, другую — наоборот, в дремотный полудень. А вот от того же вороньего глаза, что подобно перезрелой черничине просится сразу в рот, жди большой беды. Красива ягода, да ядовита.
Срываю на ходу метелку желто-оранжевых цветков, покрытых темно-красными точками, мну их в ладони. На пальцы выбрызгивают кровавые капельки. Это — зверобой, у нас его называют «куртинкой» и «заячьей кровью». Трава и правда «зверя бьет», коровы от нее начинают беситься, лягать всех подряд. А человеку она на пользу, от ста недугов вылечивает. «Без муки хлеба не испечешь, без зверобоя здоровья не выправишь», — говорит моя бабка и пользует настои для укрепления десен, а мазь при лечении язв и ожогов. Мы же из лепестков делаем ярко-красную краску, а из созревших трехгранных коробочек вытрясаем мелкие, похожие на мак семена. Во рту они горчат, вызывают вялость и сонливость, но мы их все равно едим. И вот никто еще не умер. Да и не умрет, видно, потому что разной отравы и несъедобья мы перепробовали столько, что наши желудки уже не боятся яда, как Валькины пятки змеиных укусов.
Высветлился на взгорье бор — это серебристые мхи, будто ранний снежок, припорошили землю, излучают голубое сияние. И сразу же хрустнуло что-то под ногой, глянул — пробрызнула сквозь беломшистую курчавинку настоящая кровь. Рыжик! Да не один. Разом приметил я несколько огненных пятаков. Любит этот гриб горелые места, побитые жарким палом ельники, почерневшую дернину на старом костровище и вот такие, прогретые солнцем горушки. Стоит он всегда чистый, будто умытый, крепкая шляпка от рос набирает густой красноты, и, лишь созревая, гриб показывает свою светло-оранжевую, а то и голубовато-зеленую бахрому. Соленый рыжик в доме — всегда для дорогого гостя, и набрать его на свежее жарево — мечта каждого грибника. Но сегодня нам не до этого, забота наша потяжелее — порадовать родных наваристой ухой. Вот и уводит Валька нас с приглянувшейся горушки в затравеневшую ложбину.
Сочные мясистые листья, похожие на след коровьего копыта, перекрывают тропу. Трава эта так и зовется: копытень. Сколько ее ни топчи, все равно отрастет, не оставит полюбившееся место. А раз явился глазу копытень, ищи по соседству воду. И вправду, воздух заметно посвежел, и где-то совсем рядом, внизу, вызванивает невидимый родничок. К нему и спускается с песчаного откоса тропа.
Тихоструйная речка открывается зеркально-зеленоватой заводью, притененной у берегов нависающими кустами смородины. Прямо из-под наших ног какая-то черная лента шлепается в воду, напугав нас на мгновенье. Рудька замахивается ведерком, но, увидев оранжевые крапинки на черной точеной головке, недовольно ворчит: