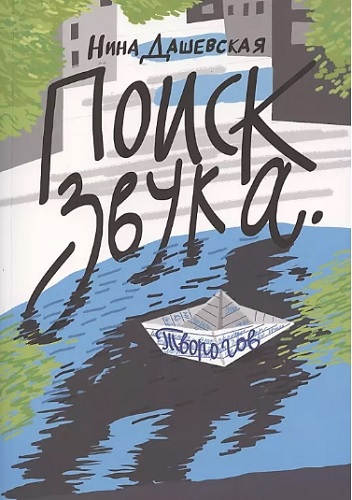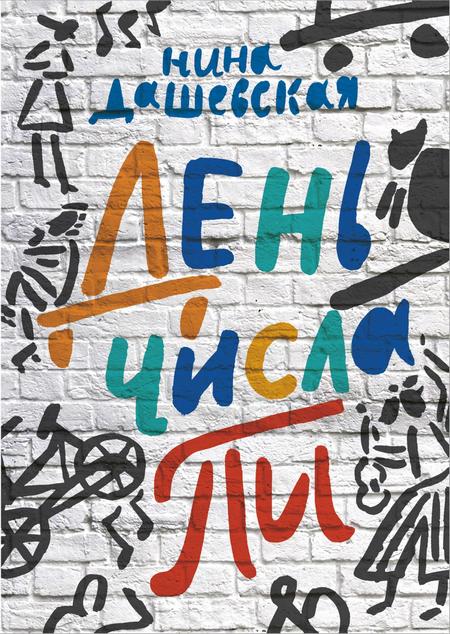пианистов. Хочется, не хочется, холодно или тепло — пианист играет. И я так же. Выбрал это место; идти недалеко. Я живу совсем рядом, вон в тех домах, — художник кивнул на ближние пятиэтажки. — Можно, конечно, рисовать просто вид из окна; но мне воздух нужен. И потом, это важно: собираешься, потом идёшь. Целое дело… уж хочешь не хочешь, а приходится рисовать. Так что вот… организует меня.
— А потом?
— Потом — по-разному. Иногда увлекает, разгоняюсь — и потом могу работать, уже дома. Идёт, получается. Иногда — ничего, пусто. Но хотя бы форму не терять. Правда, как раньше — чтобы само несло — уже не бывает.
— Значит, это просто упражнение? — разочарованно спросил Рома.
— И да, и нет. Иногда — не просто. Иногда что-то даже и… Знаешь — был такой художник, Клод Моне.
— Это знаю. Про Руанский собор?
Конечно, Рома знал это. Как художник Моне рисовал один и тот же собор в разное время, больше тридцати раз. И всегда получалось что-то новое. Свет, настроение — всё менялось.
— Ну конечно, ты знаешь, — сказал Александр Николаевич, — я сразу понял, что ты тоже художник.
— Я? Нет.
— Ну чего сразу нет. Я вижу, как ты смотришь. Только художник может на что-то смотреть так долго.
— Да я не смотрю никуда. Я, может, просто туплю.
— Не думаю… Хотя — смотря что ты вкладываешь в это слово. Я тоже, знаешь, туплю иногда. Вот, например. — И он показал одну из работ. — Совершенно бездумно нарисовано, но интуитивно что-то в этом есть…
Но Рома уже смотрел на следующий рисунок:
— Можно?
Простой ручкой на блокнотном листе; снова — мост и река. Но ещё на рисунке был мальчик. Он стоял под мостом спиной, смотрел на воду. А из реки к нему подплывало что-то тёмное.
— Кто это? — спросил Рома.
— Черепаха, — пожал плечами художник.
А. Понятно. В нашей средней полосе в реке плавает большая черепаха. Совсем ничего особенного.
— А мальчик? Кто?
— Ты, — сказал вдруг художник.
Рома вздрогнул.
— Ну нет, я пошутил, извини. Просто ты на него похож. А так был у меня тут такой друг.
— Тут?
— Да, под мостом. Но это было давно, много лет назад. Он тоже приходил сюда каждый день. И кидал в воду траву.
— Как вы?
Художник смутился:
— Ну да… теперь вот и я. В общем, я его спросил тогда — зачем? И он ответил, что раньше у него была черепаха. А потом она убежала.
— Черепаха? Убежала?!
— Ну да. Он не видел, как она пропала. И родители клялись, что они ничего о ней не знают. Тогда он решил, что черепахе захотелось к воде. И она сбежала сюда, в реку. Поэтому он ходил сюда каждый день и кормил свою черепаху.
— Понятно, — сказал Рома.
Да, конечно. Всё понятно. Наверное, стой черепахой что-то случилось, и родители, чтобы не расстраивать мальчика, сказали ему, что черепаха сбежала. У Ромы так же было с хомяком. Сейчас он понимает, что хомяк вряд ли до сих пор живет в диких лесах, но одно время он в это верил.
— А потом он уехал, — продолжил Александр Николаевич про незнакомого мальчика. — Перед отъездом он попросил меня иногда подкармливать её.
— А как же зима?
Художник помолчал.
— Ты знаешь, я думаю, она у него вполне самостоятельная рептилия, отлично добывает себе пропитание. Но ей иногда приятно брать траву из человеческих рук. К тому же… я как бы передаю ей отчего привет.
— Вы её видели, что ли? — вдруг поверил Рома.
Художник не ответил. Ну да, глупость спросил, конечно.
— На, — сказал он и вдруг протянул Роме карандаш.
— Я не умею, — ответил Рома, но карандаш взял.
И нарисовал большой неровный круг, к нему добавил выступы с четырёх сторон и один подлиннее — голову.
— Вот, — усмехнулся он, — видите?
— Вижу, — сказал художник, — черепаха.
С неба полетели первые капли. Потянуло свежестью.
— Ну вот. Теперь тут куковать, да? Надо было раньше… ладно, теперь переждем.
Рома забрался к себе наверх, там всё же потише, теплее — не такой ветер. Художник попытался влезть в его укрытие, но оставил попытки: нога не позволяла. Он сложил все свои вещи, оставил лишь блокнот и ручку. Дождь начинался как будто издалека: смывал грязь с моста, пускал рябь по воде. Пробовал свою силу порывами раз, другой; потом снова стих. И, когда Рома уже начал думать, что обошлось, дождь наконец обрушился всей своей силой.
Небо потемнело, дальний берег с колокольней скрылся из виду за сплошной стеной воды.
Мост гудел, пел — казалось, дождь хлещет прямо внутри Роминой головы. Вода в реке кипела пузырями, ветер носился, врывался под мост, кружил там и снова вырывался на волю.
Но художник, казалось, не чувствовал холода. Он как будто держался за свой блокнот, хотя ветер трепал бумагу, вырывал из рук. Вдруг художник обернулся к мальчику — и Рома поразился: его лицо сияло восторгом.
— Дождь! Рома, ты видишь — какой дождь! — крикнул он.
А Рома смотрел, смотрел на этого странного человека, на гудящие длинные балки внутри моста, на кипящую от пузырей воду… и вдруг он увидел.
— Смотрите! Александр Николаевич, смотрите скорее!
Он снова сбежал вниз, и они уже вдвоём стояли у самой воды и смотрели, смотрели, как огромная черепаха величественно плыла под мостом, грациозно шевеля длинными, похожими на ласты лапами.
Дверь в Старом Городе