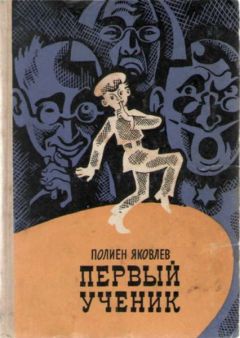— А плюс Б минус Ц… равно… А, Б…
И так много раз, пока заснул.
А папа отложил в сторону газету и сказал маме:
— Завтра я выступаю в суде. (Папа был прокурор). Завтра я расправлюсь с этими агитаторами. Подумай, до какой дошли дерзости. Требуют! Рабочий день им сократи, штрафы им отмени…
— Алексис, — равнодушно перебила его мама, — а ведь наш Коля скоро именинник. Надо ему подарить что-нибудь хорошенькое. Что бы подарить? А?
— Да… Хорошо… Но я не о том. Пойми, я не зверь, я не против того, чтобы кое-что дать рабочему. Почему иногда не дать? Почему несколько не улучшить его жизнь? Но проси, а не требуй! Иди к хозяину и проси. А они что? Стачку затеяли, на заводе шум-гвалт подняли, в администрацию камнями швыряют. Укрывают подстрекателей. Это безобразие. Дикость. Беспорядки!
— Как это скучно, — зевнула мама. — Сколько же человек под судом?
— Трое. Двое рабочих и один без определенных занятий. Этакий весьма подозрительный тип!.. Профессиональный подстрекатель!..
— Подстрекатель? — удивилась мама. — Разве есть такая профессия?
— Есть, — сердито встал из-за стола папа. — К сожалению, есть. Ссылают их туда (папа показал за окно, в темную ночь), а они бегут оттуда и снова за свое, за возмутительные прокламации, за стачки… Подпольные типографии устраивают…
— Боже мой, — сказала мама. — Какой ужас… Варя! — крикнула она. — Не забудьте завтра купить апельсинов к чаю.
Вздохнула и встала.
— Поздно, — сказала она. — Спокойной ночи, Алексис. Я пойду.
Вскоре все в доме уснули…
Не спал лишь папа. Он в своем кабинете. Сидит и внимательно перелистывает бумаги. Он готовится. Завтра надо энергично выступить в суде: быть твердым и говорить красиво. «Надо упечь непокорных в Сибирь, — думает он, — а может быть, и подальше».
— Да… — улыбается папа. Его речь будет записана. Ее прочтут папины начальники и, кто знает, быть может, наградят еще одним орденом…
«В тот год осенняя погода…»
Звонок.
Распахнуло, как ветром, все восемь дверей. Из классов хлынули гимназисты. Старшие шли степенно — парами, одиночками, младшие — беспорядочной гурьбой. Не успели преподаватели скрыться в учительской, как начались писк, визг, драка и беготня.
Попочка без устали метался по коридору, хватал то одного, то другого за ухо и ставил к стене. Не прошло и трех минут, как вся стена украсилась вереницей наказанных. Среди них первым был поставлен, конечно, Самоха.
Однако ему неплохо.
Вот идет мимо Алешка Медведев. В руках — кусок булки. Поравнявшись, он молча отламывает добрую половину.
Самоха доволен. Набил щеки, стоит жует, улыбается, корчит рожи.
Подходит Коряга.
— Уже? — спрашивает он сочувственно.
— Уже, — отвечает Самоха. — Стою, выстаиваюсь.
— Постоять с тобой вместе?
— Нельзя! — подбегает Попочка. — Нельзя стоять с наказанным рядом.
— Я тоже наказанный, — врет Коряга. — Афиноген Егорович еще на уроке сказал, чтобы я на перемене к стене прилип.
— Тогда стойте молча, — требует Попка и летит в другой конец коридора ловить «преступников».
— Что, Самоха, делать будешь, когда из гимназии выгонят? — начинает Коряга «развлекать» приятеля.
— В цирк поступлю.
— Нет, правда, что делать будешь?
— Улечу на воздушном шаре.
— Фу, я серьезно, а ты…
— Чего спрашиваешь? Разве я знаю. Может, и правда в цирк пойду. Акробатом… Акробатом, по-моему, ничего, интересно…
И, вздохнув, добавляет:
— А разве как выгонят из гимназии, так мне домой можно? Отец у меня, знаешь, какой…
И совсем тихо:
— Раньше еще ничего, а теперь то и дело пьет. А как напьется — бьет. А потом сидит и поет: «Выхожу один я на дорогу».
Сережке жалко Самоху. Чтобы утешить, говорит он ласково:
— А ты не давайся отцу в руки. Чего ради? Как начнет! — беги к нам.
— Приду… А Афиногену Швабре я еще умудрю штуку. Я письменный содрал у Медведева. Слово в слово содрал, ну точь-в-точь, а что вышло? Медведеву тройка с плюсом, а мне два с минусом. Справедливо это?
— Хочешь, я задачу тебе списать дам? — совсем разжалобился Сережка. — Хочешь, я для тебя у восьмиклассников папиросу выпрошу?
— Не надо, — говорит Самохин, — акробатам курить нельзя: мускулы портятся. А у меня, смотри, какие.
Хотел засучить рукав, а тут сам Амосов Коля собственной своей персоной вышел из класса. Идет, держит книгу перед глазами и читает про себя:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе…
Стояла долго на дворе…
Стояла долго на дворе…
И опять сначала:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе…
Амосов захлопнул книгу, вздохнул и, мерно шагая по коридору, начал снова, но уже наизусть:
В тот год осенняя погода…
— Да брось ты, — сказал Корягин. — Ведь и так выдолбил, как попугай. Какого, лешего по сто раз зубришь одно и то же? Не надоело, что ли?
— Сегодня вызовут, — ответил Коля. — «В тот год осенняя…»
— Почему ты знаешь, что вызовут?
— Чувствую…
Но Коля вовсе не чувствовал, а просто знал это наверняка. А знал потому, что Швабра у них в доме вчера чай пил.
— Завтра, Коля, я тебя в классе спрошу вот это и вот это. Ты смотри же, выучи хорошенько.
— Балуете вы его, Афиноген Егорович, — кокетливо говорила мама. — Разве так можно?
А сама была рада. Складывая губы бантиком, любезно спрашивала:
— Чайку стаканчик еще позволите? Вам с вареньем или с лимоном?
— Если можно — с ромом, — отвечал Швабра.
А Коля уже бежал в кабинет к папе и приносил оттуда Швабре дорогую сигару.
После чая Колин папа, Швабра и еще кто-нибудь из гостей садились играть в карты, а Коля отправлялся в свою комнату и принимался зубрить уроки. Часто он входил в гостиную и говорил отцу, но так, чтобы непременно услышал Швабра:
— А я уже выучил. Хорошо выучил…
Иногда даже отец не выдерживал и одергивал тихо:
— Николай! Иди к себе.
Тогда Коля принимался мучить Варю. Ставил ее перед собой и говорил:
— Я буду отвечать, а ты слушай.
— О, барчук, — пугалась Варя, — да ничего же я не понимаю. Отпустите вы меня, пожалуйста.
— Ну и убирайся! Без тебя обойдусь.
Выпроводив Варю, он ставил перед собой стул или половую щетку, шаркал перед ней ногами, любезно раскланивался и, откашлявшись, отвечал урок:
В тот год осенняя погода…
Однако, как бы ни вызубривал, а перед тем, как отвечать в классе, робел и терял уверенность.
— А вдруг забуду? А вдруг собьюсь? — трусил Коля и снова долбил и долбил без конца.
Так и сегодня. Не обращая внимания на насмешки Корягина, он присел на подоконник и, мечтательно глядя в потолок, продолжал:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе…
Корягин не вытерпел и крикнул:
В тот год зубрилка на окошке
Сидел, как сыч, поджавши ножки.
Но Коля давно уж привык к насмешкам. Раньше жаловался родителям, но отец внушал ему строго:
— Помни, из какой ты семьи. Держись подальше от этих Самохиных и ему подобных. Не пара они тебе.
Коля так и делал. Дружил с Бухом, немного с Нифонтовым и больше ни с кем.
Колкие стишки Корягина и Самохи задели его, но он не показал виду. Выбрав самый дальний подоконник, уединился, сел поудобней и продолжал шепотом:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе…
Потом вздохнув, захлопнул книгу и задумался. Стало вдруг скучно-скучно.
Подошел Бух. Коля равнодушно посмотрел на него, медленно сполз с подоконника и зашагал по коридору. Проходя мимо заразительно хохотавшего Самохина и его друзей, он невольно остановился.
— Что? — спросил Медведев.
— Ничего… Так…
— Скучаешь?
Коля удивился. Как Медведев мог угадать его настроение? Однако не признался и сказал грубовато:
— Разве у меня на лбу написано?
— Конечно, написано. На всей морде написано. Фасонишь, а потом бродишь один, как…
— Как кто? — насторожился Коля.
— Как пустынник библейский.
— Пустынник и медведь, — показал Самоха на Амосова и Медведева. Все засмеялись.
— Эх ты, — довольный своей шуткой, улыбнулся Самоха и добродушно добавил: — Был бы ты, Коля, как все, а то… И чего ты такой, Амосик?
— Какой — такой? — пожал плечами Коля. — Это вы все от меня сторонитесь, а я вовсе и не думаю…
— Да, в месяц раз ты бываешь хороший, — откровенно заметил ему Корягин и, схватив обеими руками за пояс, спросил:
— Поборемся?
— Поборемся, — засмеялся Коля, стараясь незаметно высвободиться из рук Корягина, — только подожди, не сейчас, в другой раз…