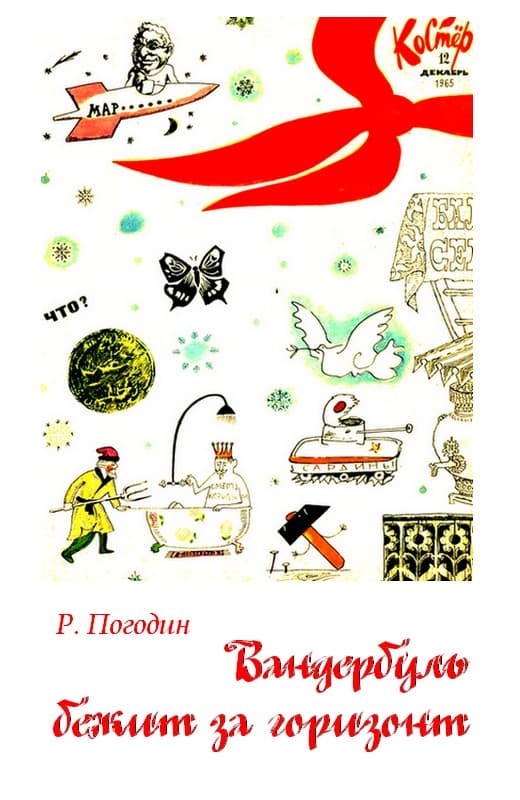у трапа — охрана более надежная, чем десять вахтенных.
Вандербуль не знал, куда спрятаться. Метнулся к шлюпкам. Брезент. Брезент покрывал шлюпки. Его не поднять. Брезент принайтован. Вандербуль достал ножик, перерезал петлю. Залез в шлюпку. Прямо на банках лежали весла. Вандербуль протиснулся между ними. Закрыл глаза. Он устал. Он свернулся в клубок. Он хотел спать и хотел, чтобы его не будили.
Он еще не отдохнул достаточно, чтобы снова воспринимать действительность. Он чувствовал сквозь сон мягкие толчки, но не хотел просыпаться. Он заставлял себя спать и спал. И снова чувствовал, как падает и вздымается, будто летит. Во сне он вспомнил маленькую девочку из своего дома, которая рассказывала ему, что уже научилась приземляться. Раньше она летала во сне и всегда падала, а теперь она научилась приземляться, как птицы. Для этого нужно было очень быстро махать руками, и тогда спускаешься хоть на ветку или куда захочешь. И стоишь, словно висишь в воздухе, не сминая травы, не ощущая твердости и тяжести земли под ногами.
Вандербуль улыбнулся во сне, и когда почувствовал падение, быстро замахал руками. Горячая боль резанула ему по закрытым глазам, Вандербуль сел, прижал больную руку к груди. И открыл глаза.
Он увидел море вокруг, серое и пустынное. Белые корабельные надстройки. Ощутил ход корабля.
Возле шлюпки стояли матросы. Несколько человек. Они глядели на него, как смотрят в зоопарке на зверьков, которых знали всегда, но увидели в первый раз.
— Бон жур, Магеллан, — вежливо сказал один из матросов.
Вандербуль втянул голову в плечи. Глянул исподлобья на горизонт, может быть, там осталась его земля?.. Может быть, с другой стороны? Он посмотрел в другую сторону.
Матросы засмеялись, закивали головами.
Вандербуль опустил голову, уставился на свою обмотанную бинтом руку. Ветер шлепал его по щекам мокрой ладонью.
«Хоть бы дождик пошел, — подумал вдруг Вандербуль, — тогда можно было бы зареветь». Он знал одиночество после обид, это было трудное одиночество. Но сейчас все отступило, как отступает лес, заполненный голосами, когда выйдешь в поле. Сейчас было вокруг так пусто, словно сердце перестало биться и глаза перестали видеть.
Офицер-пограничник Игорь Васильевич вылез из такси и легко, по-командирски поприветствовал Людмилу Тарасовну.
Вандербуль сонно вывалился за ним следом.
Утро. Облака над городом бело-розовые, как зефир.
Людмила Тарасовна сидела под своим окном на перевернутом ящике. Она увидела Вандербуля, вскочила и, оступившись, прислонилась к стене.
— Знаете его? — спросил пограничник.
— Еще бы.
— Ну, Магеллан, прибыли. Неохота мне с твоей мамой встречаться. Ох, представляю. Но ничего не поделаешь — пойдем.
Людмила Тарасовна остановила пограничника за руку.
— Откуда вы его? — спросила она.
— Из Калининграда, оказией.
Людмила Тарасовна заторопилась.
— Вы его мне отдайте. Я его сама отведу. Я здешний дворник. Могу под расписку. Их нету. Они рано уходят на работу.
Пограничник насупился, вынул из планшета письмо, адресованное начальником погранотряда отцу нарушителя.
— Хорошо, — сказал он. — Я днем наведаюсь… — Он вздохнул и пробормотал: — Письмо приказано вручить лично. Приветствую вас. До свидания. — Он еще раз отдал честь Людмиле Тарасовне, сел в такси и только оттуда, опустив стекло, помахал Вандербулю: — Смотри, без эксцессов. У меня есть секретный приказ, если что…
Вандербуль улыбнулся грустно. Он знал, что Игорь Васильевич получил отпуск за хорошую пограничную службу и очень спешит к своей невесте Тамаре.
— До свидания, Магеллан! — крикнул Игорь Васильевич.
В глазах у Людмилы Тарасовны сгущалась тень. Она взяла Вандербуля за руку и медленно, зная, что он не посмеет сопротивляться, повела к себе.
Квартирка у Людмилы Тарасовны маленькая, почти пустая. Вместо украшений одна чистота. Такая просторная чистота.
Людмила Тарасовна поставила Вандербуля к стене. В глазах у нее что-то взорвалось. Она залепила Вандербулю пощечину. Крикнула:
— Плачь!
— Что вы, Людмила Тарасовна, — сказал Вандербуль.
— Плачь, говорю! — она бросилась к шкафу. Она рылась в нем, швыряя прямо на пол простыни, наволочки и полотенца.
— У матки нервные слезы не прекращаются, отец похудел, высох, а он целую неделю по морям плавает. А ему хоть бы что! Плачь, тебе сказано!
Наконец она нашла матросский ремень с потемневшей от времени пряжкой.
Людмила Тарасовна раскрутила ремень над головой и вдруг, отшвырнув его к паровой батарее, опустилась на пол.
Она сидела посреди разбросанной одежды и всхлипывала.
— Что с вами делать? — бормотала она. — Мерзавцы. Мучители. — Она подняла на Вандербуля заплаканные глаза. — Этот-то, твой дружок, Генька, с третьего этажа спрыгнул.
— Что с ним? — прошептал Вандербуль. Внутри у него все напряглось. Он бросился к двери. — Где? В какой больнице?
Людмила Тарасовна вытерла глаза углом накрахмаленной скатерти.
— Ничего с ним не сделалось. Даже коленки не поцарапал. Парашютист негодный. Паршивец. И еще хохочет. И еще рад чему-то… А ты чего радуешься? — крикнула она Вандербулю.
Вандербуль сел на пол рядом с Людмилой Тарасовной. Ему захотелось утешить ее. Но он не знал чем и, наверно, поэтому сказал самую нелепую и самую вечную фразу на свете:
— Извините, мы больше не будем.
На перекрестке регулировщик-милиционер махал палочкой. Он казался себе дирижером. Но на улице нет дирижеров. Улица живет сама по себе. Улица учит сосредоточенного человека раздумью, как морские волны, как лес, как река с обрывистыми берегами. Она и похожа на реку. Фарватер ее обозначен вывесками. Вывески, безусловно, красивые, и, конечно, созданы для удобства: «Гипробум», «Роскооптехснаб», «Кожгалантерея». Булочную и без вывески видно.
Вандербуль ходил по улицам уже много часов. Людмила Тарасовна отпустила его под честное слово. На Театральной площади Вандербуль столкнулся с двумя моряками. У них были широкие нашивки на рукавах и широкие полосы орденских лент. Вандербуль долго глядел, как они, разговаривая, садились в автобус.
…Капитан канадского парохода сказал, сдав его пограничникам:
— Когда убегайт такое мальчишка, это значит, что в нем вырастайт храбрый мужчина. Попишите это папан, чтобы он не порол его очень.
Командир погранотряда, полковник, долго разговаривал с Вандербулем. Вандербуль боялся таких слов, как измена, предательство, но полковник расспрашивал его об отметках и всяческих пустяках. Потом он сказал:
— О родителях ты не подумал, конечно.
Вандербуль опустил голову. Обожженнуюруку он сунул между колен. Кровь в руке билась толчками, она словно продолжала счет, начатый Люциндрой на кухне. Только счет был сейчас очень медленный, и другая боль, посильнее ожога, росла в Вандербуле от этого счета.
Вандербуль опять подошел к своему дому. Он знал на нем каждую выбоину, каждую надпись в парадных.
Из подворотни выбежала Люциндра. Вандербуль вздрогнул, спрятался за дерево. Чулки у Люциндры один длиннее, другой короче. Новые туфли велики — задники шлепают.