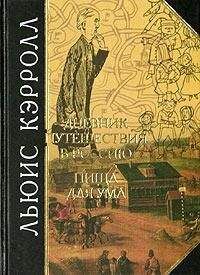Оратор оказался плотным, коренастым мужчиной, широкое, бледное лицо которого с севера замыкала копна волос, с востока и запада — кудрявые бакенбарды, а с юга — кайма бороды; все вместе образовывало правильной формы венчик (чтобы не сказать — нимб) каштаново-седоватых завитков. При всем том само лицо было до такой степени лишено всякого выражения, что я не мог удержаться, чтобы не сказать себе — почти бессознательно, словно в полусне: «Ба, да оно только намечено, как эскиз, но вовсе не прорисовано!» Тем не менее оратор заключал каждую свою фразу неожиданной улыбкой, которая появлялась, словно рябь на поверхности воды, и почти тотчас исчезала, оставляя после себя выражение до такой степени безучастное, что я всякий раз невольно бормотал: «Нет, это улыбается не он, а кто-то другой!»
— Видите? — (С этого слова неизменно начиналась едва ли не каждая его фраза.) — Видите, как живописно выделяется эта полуразвалившаяся арка, виднеющаяся на самом верху руин, на фоне безоблачного неба? Она возвышается совершенно прямо, просто удивительно! Будь она чуть больше или чуть меньше, все впечатление было бы испорчено!
— О вдохновенный архитектор! — пробормотал Артур так, чтобы его не услышал никто, кроме леди Мюриэл. — Ведь это же надо: предвидеть, как эффектно будут выглядеть эти развалины спустя столько веков после его смерти!
— Видите, как эффектно эти деревья расположены на склоне холма (за этим последовал картинный взмах руки и величественный жест человека, как бы создающего окрестный ландшафт), как туман, клубящийся над рекой, заполняет именно те промежутки, где нам для полноты эстетического впечатления необходима недосказанность? Здесь, на переднем плане, вполне допустимы несколько недурных резких штрихов: но фон без тумана — это уж слишком! Да это просто варварство! Да-да, без неопределенности не обойтись!
Произнося эти слова, оратор буквально уставился на меня, так что я почувствовал себя обязанным ответить ему, пробормотав, что я не любитель подобных эффектов и что мне доставляет куда больше удовольствия смотреть на что-нибудь, когда я четко вижу этот предмет.
— Ах вот как! — язвительно заметила важная персона. — С вашей точки зрения это, возможно, и верно. Но для того, чья душа тонко чувствует искусство, это просто примитивно. Природа — одно, а Искусство — нечто совсем иное. Природа показывает нам мир таким, каков он есть. А искусство — как говорит один латинский классик (надеюсь, вы помните?) — простите, эта цитата совсем вылетела у меня из головы…
— Ars est celare Naturam,[4] — с вежливой улыбкой напомнил Артур.
— Именно, именно! — с облегчением воскликнул оратор. — Весьма признателен вам! Ars est celare Naturam, но это далеко не всегда так. — Тут наш оратор сделал небольшую паузу, чтобы перевести дух. Этой счастливой возможностью тотчас воспользовался кто-то другой, и в тишине раздался звонкий голос:
— Боже, какие очаровательные развалины! Просто чудо! — воскликнула некая юная леди в очках, воплощение Ума и Учености, поглядывая на леди Мюриэл как на неисчерпаемый источник оригинальных замечаний. — Неужели у вас не вызывают восторга эти осенние цвета?! Я так просто без ума от них!
Леди Мюриэл обменялась со мной выразительным взглядом, но отвечала куда более светским тоном:
— О да, конечно! Вы правы!
— Разве это не странно, — продолжала юная леди, неожиданно и без обиняков переходя с глаголов Чувств на язык Науки, — что такое несравненное наслаждение нам доставляет простое воздействие цветовых лучей, падающих на сетчатку?
— Вы, я вижу, изучали физиологию? — галантно отозвался некий молодой доктор.
— О да! Премиленькая наука, не так ли?
Артур сдержанно улыбнулся.
— Парадокс, не правда ли, — проговорил он, — что изображение на сетчатке на самом деле перевернуто.
— Да, это какая-то загадка, — любезно отозвалась она. — И почему только мы не видим все перевернутым кверху ногами?
— А вам не доводилось познакомиться с теорией о том, что наш мозг тоже перевернут?
— Нет, никогда! Надо же, какой любопытный факт! Но чем это можно доказать?
— А вот чем, — отвечал Артур тоном, вобравшим в себя спесь доброго десятка профессоров. — То, что мы обычно называем вершиной мозга, на самом деле является его основанием, а то, что мы именуем основанием, представляет собой вершину. Как видите, все дело в терминах.
Последнее — такое звучное! — слово довершило его победу.
— Это просто замечательно! — с энтузиазмом воскликнула прелестная ученая леди. — Обязательно спрошу нашего лектора по физиологии, почему он никогда не рассказывал нам о столь замечательной теории!
— Хотел бы я присутствовать на лекции, когда она задаст ему такой вопрос! — шепотом обратился ко мне Артур. В этот момент мы, по сигналу леди Мюриэл, направились у месту, где стояли корзины с провизией, и занялись более субстанциальными заботами.
Мы прислуживали сами себе, то бишь служили себе слугами, как гласит модный варваризм (сочетающий в себе все недостатки каламбура и ничего не предлагающий взамен них), еще не достигший наших отдаленных мест. Само собой, джентльмены и подумать не могли о том, чтобы присесть, до тех пор, пока дамам не будут созданы все мыслимые и немыслимые удобства. Наконец, получив тарелку чего-то твердого и бокал чего-то жидкого, я занял местечко возле леди Мюриэл.
Оно было свободно и, по-видимому, предназначалось для Артура — явного чудака, но тот отчего-то застеснялся и кое-как поместился рядом с юной леди в очках, высокий и звонкий голосок которой то и дело забавлял общество прелестными фразочками типа: «Не человек, а воплощение всех достоинств!» или «Объект может быть познан только через посредство субъекта!» Артур мужественно сносил их, но на лицах некоторых гостей появилось смутное беспокойство, и я поспешил перевести разговор на не столь метафизическую тему.
— Когда я был еще ребенком, — начал я, — в дни, когда погода не слишком-то подходила для пикника под открытым небом, нам позволялось резвиться весьма странным образом, чему мы были ужасно рады. Скатерть снимали и стелили на пол под столом; мы рассаживались вокруг нее прямо на полу, и, смею вас уверить, обед в этой весьма неудобной позе казался нам куда вкуснее, чем обычное чинное застолье!
— Не сомневаюсь, что так оно и было, — отозвалась леди Мюриэл. — Всякий благовоспитанный ребенок более всего на свете ненавидит порядок. Мне кажется, что нормальный здоровый мальчишка-шалун с радостью изучал бы греческую грамматику, если бы ему только позволили делать это, встав на голову! И ваш обед на скатерти под столом наверняка обладал одной особенностью пикника, которая, на мой взгляд, является главным его недостатком.
— Возможность попасть под дождь?
— Вовсе нет. Возможность, точнее сказать — реальная ситуация, когда живые люди образуют вместе с пищей подобие некоего натюрморта! К тому же я ужасно боюсь пауков! Впрочем, мой отец не разделяет моих чувств, верно, папочка? — В этот момент Граф услышал, что говорят о нем, и повернулся к нам.
— Что поделаешь, у каждого свой крест, — отвечал он мягким и чуть грустным тоном, звучавшим в его устах как нельзя более естественно, — у всех свои симпатии и антипатии.
— Но прежде ты никогда не признавался в своих! — проговорила леди Мюриэл с серебристым смехом, прозвучавшим для моих ушей словно волшебная музыка.
Я понял, что все мои попытки напрасны, и умолк.
— Знаете, он просто не выносит змей! — громким шепотом проговорила она. — Ну, признайтесь, разве это не необоснованная неприязнь, а? Не понимаю, как можно не любить такое доверчивое, ласковое, нежное создание, как змея!
— Не любит змей?! — воскликнул я. — Да разве такое возможно?
— Увы, это правда, — с очаровательной серьезностью повторила она. — Нет, не подумайте, он их вовсе не боится. Просто он говорит, что они слишком скользкие.
Мое удивление было настолько велико, что я не сумел скрыть его. В самом звучании ее слов было нечто жуткое, сверхъестественное, что мне доводилось слышать от крошечного лесного духа. И мне стоило немалых усилий с беззаботным видом предложить:
— Давайте сменим эту неприятную тему. Давайте что-нибудь споем! Не угодно ли вам спеть, леди Мюриэл? Я знаю, вы иногда любите петь без аккомпанемента.
— Боюсь, единственная песня, которую я пою без аккомпанемента, покажется вам безнадежно сентиментальной! Ну как, слезы у вас наготове?
— Наготове! С радостью всплакнем! — послышалось со всех сторон, и леди Мюриэл — а она была не из тех дам-певичек, которые просто убеждены, что им de rigueur[5] следует отказываться петь до тех пор, пока их не попросят три, а то и четыре раза, жалуясь на плохую память, потерю голоса и прочие уважительные причины, — без всякого жеманства запела: