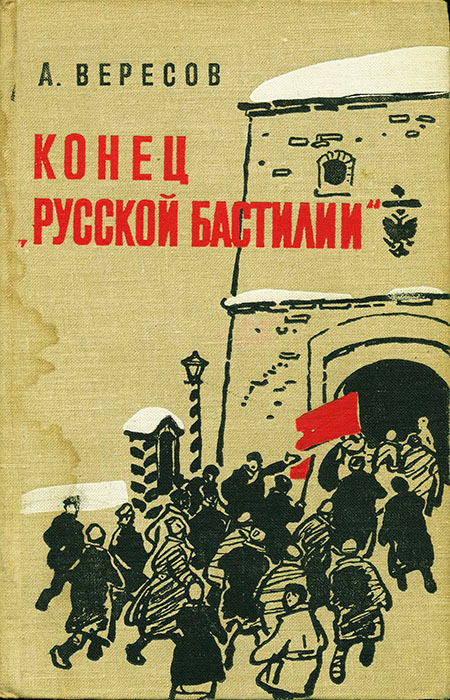не подозревал, что именно из-за него началось все это. Он видел: тюрьма протестует — и старался не отстать от других. Он еще не знал, как это случилось, что протестом охвачен весь корпус. Десятки людей действовали как один. От этого становилось веселей. Жук сотрясал дверь ударами.
В третий вечер все повторилось.
────
Иустина вывели на крепостной двор. Надзиратель объяснил: закончился назначенный Зимбергом беспрогулочный срок.
Никогда Жук не думал, что от свежего воздуха можно опьянеть. Но его шатало из стороны в сторону. Дрожащими пальцами он держался за стену. На прогулку Иустина водили одного. Ему не давали возможности повидать товарищей. С некоторыми из них он встретился спустя неделю, вечером. У островного причала вмерзла в лед баржа с углем. Разгружали ее каторжане. Оступаясь и путаясь в цепях, они тащили груженые тачки по узким доскам.
Жук управлялся с тачкой легко. Но каторжанин, который шел впереди, заметно выбивался из сил. Колесо соскользнуло с доски, он не мог поставить тачку на место.
Иустин смотрел на его тонкие, несильные руки, на молодое продолговатое лицо. Очки неплотно сидели на носу, он то и дело поправлял их. Жук усмехнулся.
— Посторонись, очкастый!
Он нажал на поручни, и колесо плотно стало на доску.
Когда вернулись на баржу, худощавый юноша в очках снова оказался рядом с Иустином. Сходни были оцеплены солдатами. Все же за их спинами можно было перекинуться словом, взглянуть на близкую и далекую волю. На том берегу Невы, в Шлиссельбурге, засветились окна домов. Крайние улицы сползали к самой реке. Виднелись гранитные устои шлюза. По тракту, огибавшему церковь, проехал обоз.
— Видишь, там — жизнь, — с жадностью вглядываясь в сумерки, сказал Жук, — своя жизнь.
Он обращался к «очкастому», не подозревая, что говорит со своим давнишним соседом и собеседником Владимиром Лихтенштадтом. А тому и в голову не приходило, что чернобородый гигант и есть Иустин Жук, за которого он так тревожился.
Город словно отступал в темноту.
— Там своя жизнь! — повторил Иустин.
Высокоторжественное петровское наименование Шлиссельбург ладожцы переделали на свой простой и житейский лад: Шлюшин.
Герб города — серебряная крепостная стена на небесно-голубом фоне, увенчанная ключом и короной, — парадный герб висел в земской управе, покрываясь пылью. Сей городской знак пребывал в безвестности и небрежении. Управской сторожихе при ее преклонном возрасте не добраться до угла, затканного паутиной. За плохо промытыми оконными стеклами складывался быт маленького уездного городка Российской империи.
В летние торговые месяцы он шумел, заполняемый голытьбой. Конские табуны ржали в загонах, разбивали копытами деревянные клади.
По ладожскому каналу шли в Петербург грузные, осевшие в воду суда. Их тащили конной тягой — полдюжины лошадей в одной упряжке. Воздух прореза́ли ременные бичи. Над ссаженными до крови спинами гудели большущие болотные оводы. При трудных поворотах гонщики впрягались в лямку вместе с лошадьми.
Медлительно и важно, кренясь и разбивая воду, баржи-«маринки» входили в Неву. В Шлюшине кончался ладожский обходный путь и подрядчики рассчитывались с артелями.
Ночи напролет захлебывались шарманки и «механическая музыка» в бесчисленных трактирах, которые, как на подбор, носили выспренные названия: «Венеция», «Восторг», «Перепутье», «XX век». Хозяевами трактиров были те же, кто владел судами и конной тягой: Беляевы, Баташовы, Нерословы. Деньги, выплаченные гонщикам вечером, возвращались к утру в хозяйские кошели.
Самым веселым в Шлюшине был престольный день. Обыватели собирались у каменной часовенки на оконечности Новоладожского канала. В часовне хранилась икона, почитаемая за чудотворную. Сюда же приходили богомольцы по обету, пешком из Петербурга.
Молодежь привлекали не часовенка и не икона. На Торговой площади разноголосо шумела ярмарка. Взлетали цветастые ситцы вокруг приказчичьих аршинов. Заливались дудочники. Верещал кукольный Петрушка в пестро изукрашенном балагане.
В один из таких дней подросток, худенький, в косоворотке под рваным пиджаком, слушал Петрушку, толкался меж барышниками, норовил заглянуть за полог сарая, где показывали «туманные картины про разные страны».
Но дольше всего он стоял около карусели. Колесницы, лошадки, хоботастые слоники были расписаны красной, синей, зеленой красками. Чудо, не карусель!
Подросток подкинул крохотную, с ноготь, монетку и ловко поймал ее.
— У меня грош, — похвастался он, — а у вас?
Две девчушки, не отстававшие от него ни на шаг, опасаясь потеряться в сутулоке, такими же зачарованными глазами смотрели на карусель.
Толстушка Зося только грустно вздохнула. Муся, высоконькая, с сухим остроносым личиком сказала горделиво:
— У меня тоже грош.
— Давай сюда, — велел подросток, — теперь у нас целая копейка. Пусть Зоська прокатится, она маленькая.
Зося уселась на коня, вцепилась в кудельную гриву и начала визжать, как только тронулся круг.
Потом, уже в сумерках, когда шли по льду через Неву, она все рассказывала, до чего хорошо кружиться на карусели. Глаза весело блестели у всех троих. На правом берегу, в заводском поселке, Муся не простясь юркнула в проулок. Зося неожиданно старушечьим голосом передразнила Мусину мать, как она встречает дочку и выговаривает ей: «Опять ты с мастеровщиной. Отец — церковный староста, уважаемый в поселке человек, и нечего тебе с голью шляться».
Паренек схватил Зосю за руку, побежали, смеясь. Жили они по соседству.
— В школу — вместе? Утречком зайду! — крикнула Зося, стукнув калиткой.
С деревянных перекладин полетел снег.
Паренек продолжал свой путь.
────
Чекаловы занимали маленькую комнатенку в семейной рабочей казарме. Вся мебель состояла из стола, трех табуреток и одной кровати.
Отец, Михаил Сергеевич, работал слесарем на заводе. По вечерам он сапожничал, обувая свою семью. Мать, Елена Ивановна, ткачиха с ситценабивной фабрики, сама шила для ребятишек. Покупных штанов или рубах здесь не знавали.
Над Чекаловыми в поселке шутили:
— Эка ведь, два берега воедино сошлись.
Шутники имели в виду левый берег Невы, где находился сам Шлиссельбург со старинной ситцевой мануфактурой и правый берег, с заводом и поселком вокруг него.
Мануфактура принадлежала англичанину Эджертону Губарту. А завод, химический по своему главному производству, управлялся немцами. Между теми и другими вражды не было, но и дружбы — тоже. Жили розно.
В немецкий клуб с левого берега приглашали изредка и не очень охотно. Англичане же, при внешней почтительности, втихомолку называли жителей правого берега «медвежатниками». Поводом к тому служила марка завода — медведь. Косолапый красовался на этикетках; и в директорском кабинете стояло устрашающее косматое чучело.
Хозяева, оберегая мир меж собою, изо всех сил старались поссорить рабочих правого и левого берега. Но ссора не удавалась.
Ткачихи всегда первыми узнавали правобережные новости. Ситцевики и «медвежатники» часто встречались, роднились.
Семья Чекаловых и была одной из таких семей, в которых «два берега воедино