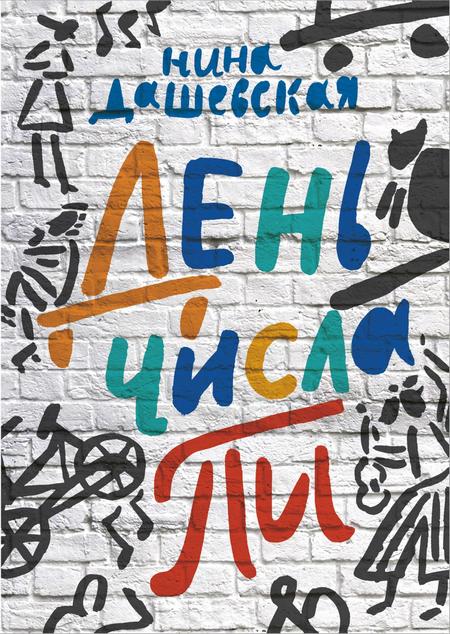повторил он. – Лида. Понятно.
Кивнул сам себе и пошёл. И только тут я догадался крикнуть ему в спину:
– Спасибо! Вы же меня спасли прямо. И кота. И виолончель!
– Да не за что! Тёте привет. И коту!
…Надо же, кто бы мог подумать. Эппл! Разговаривает как обычный человек! Шутит даже!
* * *
Байрон уже дома; открывает глаз, и глаз этот совершенно нахальный. Сам как тряпочка, будто мягкая игрушка – вкалывают ему лекарство, он даже не вздрагивает. Но я по глазу вижу: точно выживет.
Я предложил переименовать его в Гнедича, или у кого там из поэтов был один глаз. Лида сначала обиделась ужасно, а потом смеялась.
…Я не тороплюсь домой.
– Знаешь, я ведь думал, мне за рубашку влетит. А он наоборот, только удивился, что я дохлого кота на руки взял. Говорит – не смог бы так. Ну, я же не знал, что Байрон живой!
Лида качает головой:
– Всё бы он смог. Глеб так только говорит, а на самом деле всё всегда может. Если ради тебя или ради меня… ради своих, ну, ты понимаешь.
Я мою ей всю посуду, вытираю стол. Вот, теперь можно и кофе пить. Кто-то же должен ей помогать, не только брат?
– Знаешь, – вдруг рассказывает Лида, – мне было шестнадцать лет. И мой друг потащил меня на крышу. Я так боялась, что Глеб меня заметит! Что он снизу увидит, что будет ругать!
– Заметил?
– Нет. Это мы его заметили. Вышли на крышу, а он там. Лежит и пишет что-то в тетрадь.
– Что?
– Ну что! Стихи он писал раньше. Ну конечно! Чего ты на меня так смотришь, не знал? Ой. Только не говори ему, не говори – вдруг это тайна!
– А… А почему тогда перестал? Почему он… такой?
Лида пожимает плечами.
– Захочет – как-нибудь сам расскажет тебе.
…Мой отец и стихи. Кто бы мог подумать!
Интересно, в Питере можно будет залезть на крышу? Я видел фотографии оттуда, с крыш. Конечно, нас никто не отпустит; но вдруг?
Кстати, шагомер бы пригодился, наверное. А я так и не купил. Получается, вроде уже и не нужен…
* * *
– Будешь играть на отчётном концерте, – вдруг говорит Герда.
На отчётном!
Там всегда играют самые лучшие. И почему я, я же не лучший! Я вообще не люблю выступать.
– Это не дело, только самому с собой играть. Надо учиться, набирать опыт. И хватит уже изображать неудачника, тебе вполне есть что показать.
Перед отчётным нужно пройти прослушивание. Прямо сейчас. Оказалось, Герда специально мне не говорила, чтобы я не волновался раньше времени.
Мы идём в большой зал, поднимаемся по лестнице, я стараюсь не зацепить виолончельным шпилем ступеньки – редко приходится ходить с открытой виолончелью.
Проходим мимо лимонной кадки. И мне даже пока не страшно; просто я впереди своей головы иду. Уже в зале – а голова ещё в классе. Ещё не понял. А в зале народу! И Валя здесь. Ладно; вот Валя сыграет, я послушаю. И пока ни о чём не буду думать.
Первыми играют в четыре руки близнецы-пианистки, такие смешные маленькие девочки с одинаковыми косичками. Не то чтобы здорово играют, просто забавно, что такие одинаковые. И после них сразу – я!
Хотя не концерт же, не экзамен. Ничего страшного! Почему у меня ноги стали из сахарной ваты? Даже на сцену нормально не смог подняться, споткнулся, чуть виолончель не грохнул. Поклониться забыл. Сразу бросился к стулу, сел. Сижу.
Герда хотела, чтобы я своё играл. А я вдруг испугался и решил играть Прелюдию Баха, которую хорошо знаю. Невозможно здесь своё! При всех!
Нормально, кстати, начал, руки сами играют, будто это не я. Только бы не думать, не думать, не думать! Чёрт.
Слетел с текста. Поискал ещё рядом – мозг отказывает, не могу сообразить, в какой я тональности даже! Всё же как-то выплыл, руки играют – а головой никак не могу сообразить. И все видели мою беспомощность. Понятно; какой тут отчётный, ни на какой концерт я не пройду. Когда же она закончится? Длинная какая Прелюдия, как это мучительно!
Только к последнему такту я включился, стал соображать, что делаю. И вытянул последнюю ноту длинным, красивым звуком, ровным, не дрожащим. Откуда взялось? Всегда бы так!
Наверное, я просто расслабился, что уже всё.
Я встал и собрался уходить со сцены, молча, никто не хлопает: на прослушивании и не принято особенно хлопать.
– «Деревья» сыграй, – попросила вдруг Герда.
Не попросила, а… в общем, у меня не было шансов отказаться. «Деревья» – это моя пьеса, такое неудобное у неё название. Я часто смотрю на деревья под окном, они такие все разные; вот и придумал эту штуку. С какой же ноты она начинается?..
Стыдно смотреть Герде в глаза. Я специально отвожу глаза от того места, где она сидит. И натыкаюсь на Валю. И Валя спокойно так смотрит на меня. Из-под своих косматых бровей.
И я вдруг забыл и про прослушивание (всё равно уже завалил), и про всех людей в зале. Я буду играть только для Вали. Хотя после Баха играть своё… Да какая разница?
Конечно, начинается с самой нижней «до», как и Прелюдия! Как я мог забыть? В своей музыке мне намного легче; как в домашней одежде, легко и свободно. Я дохожу до верхних нот, где деревья тихо шелестят. И даже вставляю на ходу кусок, которого там раньше не было. Потом спускаюсь вниз – ой, как я здесь оказался? Заблудился в собственной пьесе, как в лесу! Но это меня почему-то не смущает; я спокойно играю дальше, будто так и надо.
Поднимается ветер, он превращается в бурю – тут уж вообще не до тональности! Деревья качает, гнёт и треплет, и вот огромный сук ломается, летит на землю…
Постепенно всё успокаивается. И я возвращаюсь к началу: дуб роняет жёлудь, и из него проклёвывается маленький красноватый росток.
Я снимаю смычок, последний звук ещё летит, а потом растворяется в воздухе. И мне хлопают. Хлопают! Значит, понравилось.
И я ужасно собой горжусь, целых пятнадцать минут. Пока не настаёт Валина очередь.
* * *
Валя волнуется, это видно. Вытирает руку о юбку. И не поднимает глаз. Как же она будет играть?!.
Но как только она подносит флейту к губам – всё меняется. Будто человека переключили на другой режим.
Чудно́: я не люблю этот инструмент, а у Вали слушал бы и слушал. Как будто не флейта издаёт эти