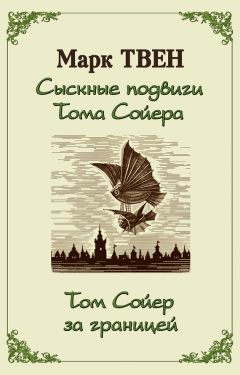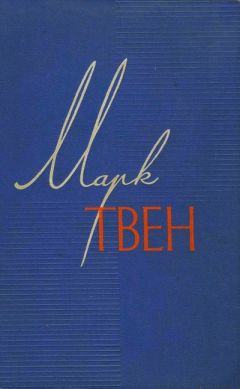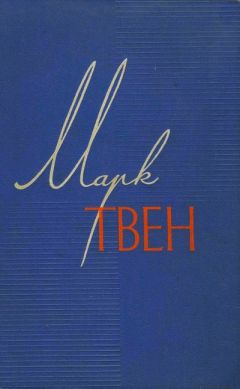Глава XII
Кушанье с песком. – Пирамиды и сфинксы. – Нападение и оскорбление американского флага. – Рассуждения о воздухоплавании.
Теперь наша еда была порядком заправлена песком, но это ничего не значит, когда вы голодны; если же вы не голодны, то и в еде никакого удовольствия нет; поэтому небольшая примесь песка в кушаньях беды не составляет.
Наконец мы добрались до восточного конца пустыни, направляясь все время к северо-востоку. Далеко, на краю песка, в нежном розовом свете мы увидели три маленькие, остроконечные крыши, вроде палаток, и Том сказал:
– Это египетские пирамиды.
Мое сердце так и запрыгало. Видите ли, я много раз видел их на картинках и слышал о них сотни раз, и все-таки, когда я так внезапно очутился около них и оказалось, что они в самом деле существуют, а не выдуманы, я едва переводил дух от изумления. Странное дело, чем больше вы слышите о каком-нибудь великом, огромном и важном предмете или человеке, тем больше он кажется каким-то призраком, какой-то огромной смутной фигурой, сделанной, можно сказать, из лунного света и совсем не настоящей. Таков Джордж Вашингтон, таковы же и пирамиды.
А кроме того, все, что рассказывают о пирамидах, всегда казалось мне небылицей. Например, явился к нам в воскресную школу какой-то молодец и показал картинку, на которой были нарисованы пирамиды, и сказал, что самая большая из них занимает тринадцать акров и имеет почти пятьсот футов в высоту, так что похожа на крутую гору, построенную из каменных глыб величиной с письменный стол, уложенных совершенно правильными рядами на манер ступеней лестницы. Тринадцать акров под одной постройкой – да ведь это целая ферма! Не будь это в воскресной школе, я подумал бы, что он врет, да так я и думал, когда был не в школе. Он говорил также, что в пирамиде есть дыра и вы можете войти в нее со свечами, и идти по длинному косому туннелю, и прийти в большую комнату в самой утробе этой каменной горы, и там вы найдете большую каменную гробницу, а в ней лежит царь, которому уже четыре тысячи лет. Я еще подумал тогда, что если это не выдумка, то я согласен съесть этого царя, если они достанут его, потому что даже Мафусаил не был так стар, а уж старше него никого не было.
Когда мы подлетели немного ближе, мы увидели, что желтый песок кончался длинным прямым краем, точно одеяло, а к нему примыкала обширная ярко-зеленая страна, по которой извивалась какая-то полоска, и Том сказал, что это Нил. Тут мое сердце опять запрыгало, потому что насчет Нила я всегда думал, что он не существуют взаправд у. Ну а теперь я вам скажу одну вещь, насчет которой вы можете не сомневаться: если вы пролетели три тысячи миль над желтым песком, который блестит на солнце так, что у вас глаза слезятся, и потратили на это почти целую неделю, то зеленая страна покажется вам такой родной, таким раем, что ваши глаза опять прослезятся. Это самое случилось со мной и с Джимом.
Когда же Джим поверил, наконец, что эта страна Египет, то он не хотел входить в нее стоя, а бросился на колени и снял шапку, потому что, говорил он, не подобает смиренному бедному негру вступать иначе туда, где жили такие люди, как Моисей, и Иосиф, и другие пророки и фараон. Он был пресвитерианин и питал глубочайшее почтение к Моисею, который, по его словам, тоже был пресвитерианин. Он был ужасно взволнован и говорил:
– Эта страна Египет, страна Египет, и я удостоился видеть ее моими собственными глажами. И эта самая река была превращена в кровь, и я видаю ту самую жемлю, где были кажни, и мошки, и жабы, и саранча, и град, и где поставляли жнаки на дверных косяках, а Ангел Господень приходил ночью и убивал всех египетских первенцев. Старый Джим не достоин видеть этот день!
Тут он не выдержал и заплакал от радости. Затем между ним и Томом начались бесконечные разговоры. Джим был взволнован, потому что эта земля была историческая: тут были Иосиф и его братья, Моисей в тростнике, Иаков, пришедший в Египет покупать хлеб, с серебряной чашей в мешке, – все такие интересные вещи; а Том был тоже взволнован, потому что эта земля была битком набита историей в его вкусе, о Нуреддинах и Бедреддинах, и таких чудовищных великанах, что у Джима волосы на голове вставали дыбом, и о разных других народах из «Тысячи и одной ночи», которые, наверное, и половины того не сделали, что о них рассказывалось.
Тут мы испытали разочарование, потому что поднялся утренний туман, какие здесь часто случаются, а нам не хотелось подниматься над ним, так как желательно было лететь над самым Египтом, и мы решили держать курс по компасу, прямо к тому месту, где находились пирамиды, скрывшиеся в тумане, а затем спуститься пониже и лететь у самой земли и хорошенько все рассмотреть. Том взялся за руль, я стоял подле него, готовый бросить якорь, а Джим уселся верхом на носу, чтобы всматриваться в туман и предупреждать нас об опасности. Мы летели прямо, но не очень быстро, а туман становился все гуще и гуще, так что Джим казался сквозь него каким-то неясным и лохматым и дымным. Была мертвая тишина, мы говорили шепотом, и нам было жутко. По временам Джим кричал:
– Немного повыше, господин Том, повыше! – И мы поднимались фута на два и пролетали над плоской кровлей какой-нибудь мазанки, а на ней лежали люди, которые только что начинали просыпаться, зевать и потягиваться; а однажды какой-то молодец только было поднялся на ноги, чтобы получше зевнуть и потянуться, мы хватили его по спине и сбросили с крыши. По прошествии часа тишина по-прежнему была мертвая, и мы напрасно прислушивались, затаив дыхание; туман немного рассеялся, и Джим завопил в ужасном испуге:
– О, ради бога, летайте назад, господин Том, тут самый огромный великан из «Тысячи и одной ночи» идет к нам! – И опрокинулся вверх ногами в лодку.
Том дал задний ход, и когда мы остановились, человеческое лицо величиной с дом смотрело в лодку, как будто какой-нибудь дом заглянул в нее своими окнами, так что я упал и обмер. Должно быть, я даже по-настоящему умер и скончался на минуту или на две; но потом опомнился и вижу, что Том зацепился багром за нижнюю губу великана и таким способом удерживает шар, а сам задрал голову кверху и рассматривает это ужасное лицо.
Джим стоял на коленях, сложив руки, уставившись на чудовище, точно молил его о пощаде, и шевелил губами, но не мог выговорить слова. Я взглянул и чуть было опять не обмер, но Том говорит:
– Он не живой, дурачье; это сфинкс.
Никогда еще Том не выглядел таким маленьким, вроде мухи, но это казалось потому, что голова великана была такая громадная и суровая. Суровая!.. да, но уже не страшная, потому что, вглядевшись, можно было заметить, что это благородное лицо и как будто грустное, и вовсе не думает о вас, а о каких-то других и более важных вещах. Оно было каменное – из красноватого камня, – а нос и уши у него были отбиты, и это придавало ему обкусанный вид, и от этого вам было еще более жаль его. Мы постояли перед ним, потом облетели вокруг него и над ним и нашли его очень величественным. Голова его была мужская, а может оыть, и женская, а тело как у тигра, в сто двадцать пять футов длиной, и между передними лапами помещался красивый маленький храм. Весь он, кроме головы, был засыпан песком целые столетия, быть может, тысячелетия, и только недавно его отрыли и нашли этот маленький храм. Какая пропасть песка понадобилась, чтобы зарыть это создание! Я думаю, почти столько же, сколько потребовалось бы, чтоб зарыть пароход.
Мы высадили Джима на самой макушке с американским флагом для охраны, так как находились на чужой земле; а затем стали летать по всем направлениям, разыскивая то, что Том называл эффектами, перспективами и пропорциями, а Джим тем временем усердствовал, принимая всевозможные позы и положения, но всего лучше выходило, когда он становился на голову и выделывал ногами разные штуки, по-лягушечьи. Чем дальше мы отлетали, тем меньше становился Джим и тем величественнее сфинкс, пока, наконец, мы увидели, так сказать, булавку на куполе. Таким путем, говорил Том, перспектива дает правильные пропорции; по его словам, друзья Юлия Цезаря не знали, чем он велик, потому что находились слишком близко от него.
Мы отлетали все дальше и дальше, так что, наконец, Джима совсем не стало видно, и тогда-то нам бросилось в глаза все благородство огромной фигуры, смотревшей с высоты на Нильскую долину так спокойно, и величаво, и одиноко, и все жалкие лачужки и другие предметы, разбросанные вокруг нее, исчезли и скрылись, и ничего не оставалось вокруг, кроме далеко раскинувшегося бархата-песка.
Тут было подходящее место, чтобы остановиться, так мы и сделали. Мы провели здесь полчаса, смотрели и раздумывали, но оба ничего не говорили, потому что для нас было что-то странное и торжественное в мысли о том, что сфинкс глядел на эту долину и думал свои вещие думы тысячи лет, и никто до нынешнего дня не разгадал их.
Наконец я взял подзорную трубку и увидел, что какие-то черные фигурки копошатся вокруг него на бархатном ковре, а другие взбираются к нему на спину, заметил также два или три клуба белого дыма и сказал Тому, чтобы он посмотрел. Он сделал это и говорит: