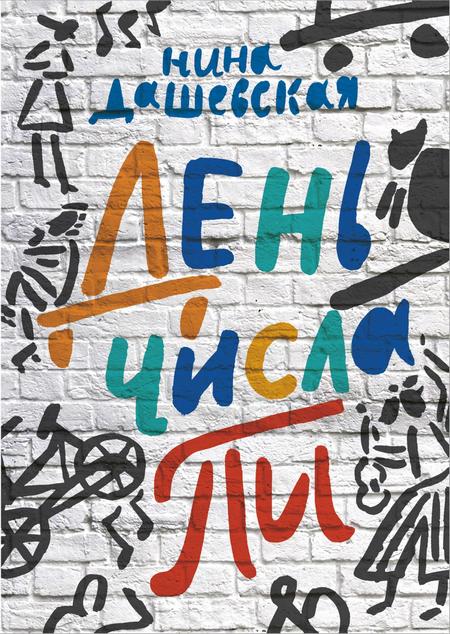подоконник.
– Отличается, отличается, – говорит Герда. – Особенно если целиком слушать, а не вот так. Понимаешь, у других мелодия могла бы пойти и так, и иначе. По-разному можно: ну, пусть так. А у Моцарта всегда единственно верный путь. Будто начал – и ровная леска тянется до самого конца, натянутая. Кстати, я его не любила раньше. Только в этом году начала слушать его столько.
…Я вспомнил, как принёс ей конфеты с Моцартом. А она сказала, что не любит их. Ну, был конец года, что ли. И многие принесли подарки: она сразу раскрывала коробки и угощала всех подряд. Я тогда объелся, живот болел даже. А потом, когда все ушли, она мне и сказала: «Я Моцарта люблю в чистом виде. А конфеты нет». То есть другим ученикам не сказала, чтобы не обидеть. А со мной можно. Я именно тогда почувствовал, что я ей не как все.
– Помните, вы говорили, что музыка развивается по спирали? – спрашиваю я. – Но получается, что Моцарт единственный и никогда не повторяется?
– Моцарт единственный. И Бах. Две скалы. Равновеликих им нет. Думаю, Бах тебе сейчас ближе, да?
– Да.
Это правда. Баха я очень люблю. Есть сольный Бах для виолончели – только виолончель, и всё. Одна. Моя Прелюдия как раз такая. Из «Шести сюит для виолончели соло»; когда-нибудь я сыграю их все. Хотя они и очень сложные.
– Конечно. Ты хорошо Баха слышишь, Кирилл, хотя играть пока не умеешь. Научишься: внутри есть, достанешь. Моцарт – это совсем другое, это про радость жизни. В юности это не очень понятно.
– Про радость? А как же «Реквием»?
– «Реквием»? Кстати, это ещё не самое трагическое произведение. У Моцарта есть и…
…Я не всё понимаю и не всегда соглашаюсь – иногда специально спорю, потому что Герда это любит. И через несколько минут она опять Герда, как раньше. Только чуть-чуть меньше и легче. Похожа не на подростка, а, скажем, на третьеклассника.
У меня постепенно рассасывается ледышка внутри: всё нормально.
* * *
Экзамен я сдал. Играл не очень, но поставили пять с плюсом. Думаю, это для Герды плюс, а не для меня.
Зато Валя мне подарила музыку. По-настоящему подарила: пьесу для виолончели. Я попробовал играть, но не смог сразу. Очень сложное, надо учить.
– Это мне слишком. Слишком большой подарок, Валя. Я даже не знаю… мне нечем тебе будет отдавать.
– Ты уже отдал. Я никогда ни с кем не умела разговаривать, а с тобой могу.
…Я покраснел и хотел сказать, что мне надо к Герде. Потому что стало как-то… неуютно. Неловко.
Валя исключительная, особенная. Но я привык, что ли. Как ей трудно всё-таки. Вот напишешь такую пьесу, как её флейтовая, и потом все ждут от тебя необыкновенного. И нужно всё время прыгать выше головы.
Мне с ней очень хорошо говорить, с Валей. Но я будто единственный человек для неё. Она больше ни с кем не разговаривает; и всё время ждёт меня. Страшно же.
И вдруг она говорит:
– Знаешь, я еду в Мюнхен.
– Куда?
– В Мюнхен. Там будет музыкальный лагерь, я всё думала, что не получится, или меня не отпустят, или визу не дадут. Но всё получилось.
– Когда?
– Послезавтра.
Я даже растерялся. Надо же, а я ничего не знал, молчала, как партизан. Вот это выдержка. А потом обрадовался – поедет! Может, познакомится там с кем-нибудь. И тут же стало неловко: будто я её спихиваю. Но ведь мне правда хочется, чтобы у неё была жизнь, друзья разные, я же не могу её за руку водить все время!
…И вдруг стало обидно, что она так скоро уедет.
– Ты мне напиши, ладно? – сказал я.
* * *
Герду выписали домой; мой отец отвёз её из больницы на машине. Видимо, у неё и правда нет никого близких – только папа смог. Больше некому.
Я пришёл к ней после экзамена. А у неё… у неё моя мама сидит!
– Ого, – говорю я.
Потому что она не просто сидит, скажем, кофе пьёт. Она сидит за виолончелью.
– На чём мы остановились? – спрашивает Герда.
– Ну, нет! – качает головой мама. – Я при Кирюхе не могу.
– Как же вы дома заниматься собираетесь? – спрашивает Герда.
– Чего? Как заниматься?!. – не понимаю я.
Мама смеётся:
– Вот, решила на старости лет. Когда человек ходит на работу с виолончелью, начинает себя чувствовать виолончелистом.
Вот это номер! Они с Гердой занимаются!
Всё же ерунду я выдумал тогда про Лиду: конечно, я мамин сын, не Лидин, тут и думать нечего.
Потом мама уходит, а я остаюсь. Герда дома стала похожа на саму себя, и мне не хочется от неё уходить.
Рассказываю ей про Лёву. Что у меня есть такой одноклассник, совершенный псих – с цветным математическим слухом, любит Шёнберга и хочет придумать свою музыкальную систему.
И что спираль раскручивается наружу, до бесконечности.
– Ты его выдумал? – не верит Герда.
– Нет. На самом деле!
– То есть ты хочешь сказать… хочешь сказать, что жизнь прекрасна и удивительна?
* * *
Жизнь и правда прекрасна и удивительна. Особенно сейчас.
Мы с Соней катаемся на роликах. Это кажется невозможным, я не верил до последнего, что всё получится. У Лиды оказалась какая-то в Риге книжная ярмарка, что ли, или конференция издательская, я не понял. И она говорит: возьму племянника с собой! И отец, главное, хоть бы слово против. Сказал мне только: «У тебя же троек годовых не будет?»
Будто я перешёл на новый уровень, что ли.
Я и сдал всё без троек, вернее, почти всё. Даже алгебру. А геометрию не смог, хотя Лёва мне объяснял довольно толково.
Мы с ним пришли к Эпплу. И я сказал, что никогда раньше ничего не просил и всё понимаю. Что это нечестно, и он не имеет права, – но сейчас прошу четвёрку вперёд, в следующем году я исправлю. Потому что мне умереть как надо в Ригу.
И Лёвка ляпнул: Кирилл едет к Соне. К нашей Соне, которая уехала. А с тройкой его не пустят. А геометрию он выучит, мы обещаем. Мы.
…Ведь Лёва не должен был мне помогать, а?..
Эппл сказал, что так нельзя. Что он не имеет морального права. Но если в этом моё счастье…
В общем, четвёрку я получил.
Отчётный концерт отменили. Что-то случилось – прорвало трубу в концертном зале, и теперь там ремонт. То есть не совсем отменили, а перенесли на осень. И хорошо. Я без Герды