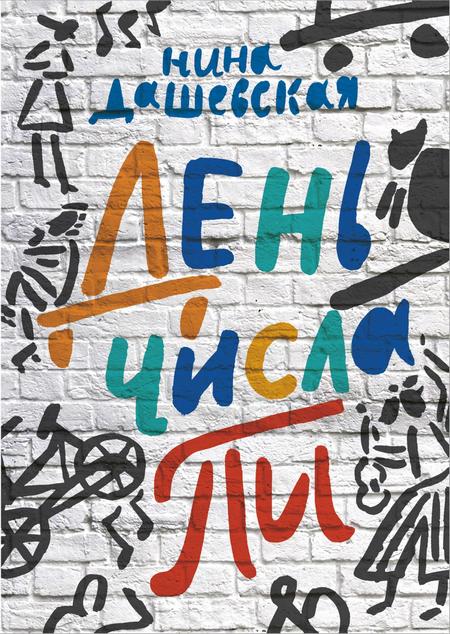не хочу играть. А к осени я выучу Баха и свои «Деревья» получше. Или даже напишу новое. У меня теперь иногда такая музыка в голове, какой раньше не было. Но я пока боюсь её играть.
…Даже когда уже мы получили визы, когда купили билеты – мне всё казалось, случится что-то такое, и я не поеду.
Но мы уже в поезде! Едем!
Лида смотрит в окно и улыбается. Удивительно, как она может так долго смотреть в окно – и не читать ничего, и не разговаривать? Просто смотреть.
– Слушай, – спрашивает она меня вдруг. – А Костя этот, он нормальный вообще?
– Какой ещё Костя?
– Да учитель твой, который мой сосед.
Да, ведь оказалось, они с Лидой в одном доме живут.
– А, Эппл! Ну, как сказать… Математик он!
– Я уже поняла, что математик! – смеётся она. – Напросился на кофе и два часа мне объяснял теорию струн!
– Ого! А ты ему про раннего Блока, да? – шучу я.
Лида вдруг перестала смеяться:
– Про позднего… а ты откуда знаешь?..
Тут уже я смеюсь, не могу остановиться! А потом говорю:
– Ты зачем тогда спрашиваешь, нормальный он или нет?
– Я ему ключи оставила. Кошек кормить, и Байрону нужно колоть антибиотик, он научился уже.
– Кто, Эппл? Колоть антибиотик?!. Ключи… Слушай, Лида. Он, в общем, такой же нормальный, как и ты.
– Сомнительная, прямо скажем, характеристика.
– По крайней мере, за своих котов можешь не переживать.
…За окном мелькали деревья и чья-то обычная жизнь. Лида уткнулась в книжку, а я сидел в наушниках, слушал музыку и думал: вот она не совсем нормальная, оставила ключи чужому человеку. А может, уже и не чужому: Эппл тоже не вполне нормальный! Да есть ли кто нормальный рядом со мной? Лёва, Валя… Герда, конечно, тоже никак не похожа на обычную учительницу музыки. А вот эта незнакомая женщина, которая посадила в свою машину двух мокрых балбесов, совершенно чужих. А мой отец? Тот, кто писал стихи на крыше, кого я совсем не знаю… Нет, все вокруг меня – не совсем обычные люди.
А я? Я сам-то какой? И хочется ли мне вообще быть нормальным, нет?
* * *
…Я поверил, что приехал в Ригу, только когда Т. – то есть Соня – открыла мне дверь. А потом стояла и смотрела на меня. У нас в классе все обнимаются при встрече, но мы с Сонькой никогда. И я ещё подумал – сейчас-то можно, нет? И опять не решился.
– Я никак не верила, что ты приедешь, – сказала она.
Потом её родители долго нас кормили; а её папа вдруг спросил: «Какой у тебя размер ноги?»
Оказалось, сорок второй, как и у него; и он дал мне свои ролики. И вот мы с Соней едем вдвоём. Рассекаем. Она связала кеды шнурками и повесила через плечо, и я тоже так сделал: смешно получается, как будто на пляже. И сначала мы просто едем и молчим. А потом начинаем говорить. Конечно, понятно, о чём. О ком.
– Кирилл, – говорит она, – я, знаешь… Я ведь очень переживаю за Лёву.
– Я знаю.
– Вы ведь очень похожи. До ужаса похожи, будто братья! Как из одного конструктора сделаны. Только у него пары деталей не хватает.
– Или лишние.
– Да, наверное. Лишние. Но вы иногда мне пишете одинаковые эсэмэски! Один в один! Как близнецы.
Эээ… Это как-то неприятно. То есть я, значит, мучаюсь, сочиняю ей письмо – а Лёва ей такое уже послал?!.
– Да, только он в пять раз длиннее пишет.
– И ты всё это читаешь?
– Ну да. Ему же нужен кто-то… слушать. А мне интересно. Очень.
– Значит, и про Питер он написал тебе? Что там было?
– Про Питер? Нет. Он про устройство мира больше, – Соня смеётся.
А потом вдруг становится серьезной.
– Ему нужен кто-то, Кирилл. Для связи с миром. Проводник. Понимаешь? Он умный, интересный, но у него… у него другая операционная система. Нужен адаптер.
У неё волосы выбились из резинки и зацепились за шнурок, которым кеды перевязаны. На плече. Мне хочется поправить, но я не решаюсь. И на несколько секунд отключаюсь, не слышу, что она говорит.
– Я могу тебя попросить? – продолжает она. – Помогать ему. Я же могу только переписываться, а ты рядом. Я понимаю, что…
– Ты ничего не понимаешь. И просить меня об этом не надо.
– Совсем? Кир, я не могу понять, как ты, такой, и не понимаешь! Как ты не понимаешь!..
– Не надо просить. Совсем. Мы… Мы с твоим Лёвой теперь… ну, вроде друзья.
– Смеёшься, что ли?
– Нет. Он меня в Питере в воду столкнул.
– Что? Как это?!.
– Прямо в Мойку, прямо в Мойку… как Мойдодыр.
– Ничего не понимаю. Ты можешь нормально рассказать?
Я рассказываю. Никому не говорил, кстати, что Лёва меня толкнул. Потому что не поймут. А Соня поймёт – он не специально, так получилось. И ещё я рассказываю ей про Моцарта и Сальери. Как я решил, что Лёва – Моцарт и мешает мне жить. А мешало что-то другое, внутри моей головы. А сейчас оно исчезло.
Надо же, мне всё это казалось таким серьёзным. А сейчас, когда я говорю об этом вслух – ерунда. Какой я был… ну, дурак просто. Сальери. Выдумал тоже.
…Вообще я хотел поговорить о другом. Но так и не решаюсь спросить – говорила она Лёве или нет. То, что он мне передал тогда, в Питере, на последнем этаже гостиницы. И если говорила – правда это или нет. То есть Лёва никогда не врёт, конечно; но ведь сама Соня могла и соврать. Чтобы, скажем, Лёва тоже не думал себе лишнего.
Но мне непонятно, как об этом говорить. С чего начать.
И потом, может, Соне тоже непонятно? Разве я могу спросить: я или Лёва? Если и я, и Лёва – это-то я понимаю. Что мы оба ей нужны. И что мы втроём как-то связаны. Может, даже на всю жизнь.
По крайней мере, я его никогда не брошу. Потому что мне он нужен, очень. С кем ещё поговоришь так.
Поэтому я говорю про музыку, как хожу с ней в голове; и что моя музыка повторяет старое, а Моцарт, то есть Лёвка – особенный.
– Моцарт? Вот ты дурак, Кир, честное слово. Он, конечно, необыкновенный, но из него такой же Моцарт, как… Как из тебя Сальери. Зачем ты вообще сравниваешь? Ты – это ты. Я же, скажем, не пишу ни музыки, ни стихов. И что мне теперь,