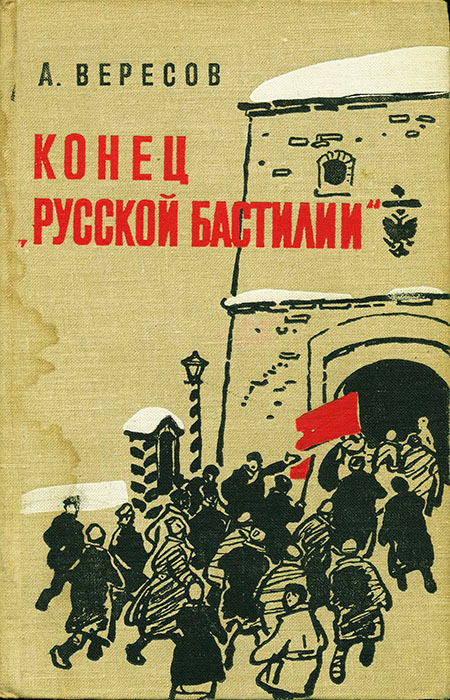присланный генерал-губернатором главный инспектор тюрем.
Надзиратели выбивались из сил, чтобы поднять каторжан, поставить их в шеренгу.
Заключенные сидели на полу. Иустин, обхватив колени огромными ручищами, не пел, а выкрикивал слова:
Покоренный на востоке, покоритель на Руси,
Будь же проклят, царь жестокий!
Последнюю строку проревела вся камера:
Царь, запятнанный в крови!
Снова прокричал Иустин:
Проклятье и опричникам его!
На Жука навалились солдаты. Он отбросил их. Началась свалка. Иустина хотели вывести из камеры. Каторжане не отдавали его.
Наступила решительная минута. Надзиратели посматривали на полковника. Заключенные ждали стрельбы. Но полковник помахал под носом белыми перчатками и, глядя прямо перед собой, зашагал прочь. За ним потянулись надзиратели и солдаты.
Вслед несся шум, свист.
Лихтенштадт спокойными близорукими глазами смотрел на все еще не могущих успокоиться товарищей. Он протирал стекла очков и тихо говорил:
— Они испугались нас, потому и не стреляли. Понимаете, они струсили… Что-то испортилось в механизме российского самодержавия…
К концу тревожного дня Владимир по привычке открыл тетрадь с дневниковыми записями. Но тут же снова спрятал ее. Сейчас не до того. Подумал: знают ли обо всем случившемся в Петербурге? Всякая почтовая связь острова с внешним миром прекратилась.
Владимир перехватил Иустина, метавшегося по каземату.
— Понимаешь, дорогой товарищ, — сказал он ему, — история пишется не пером.
Старая тюрьма и четвертый корпус переведены на карцерное положение. Камеры переполнены заключенными, так что повернуться негде. Всех лишили горячей пищи, лишили прогулок.
Эта мера не только не испугала каторжан, но подняла дух, укрепила решимость. В те дни встретились многие товарищи, разлученные годами. Но самое главное — под одной крышей теперь были те, кто возглавлял протест.
Впервые Жук увидел людей, о которых так много слышал: Бориса Жадановского и Федора Петрова. Они оказались очень разными. Подпоручик Жадановский — маленький, по-мальчишески худенький, доктор Петров — бородатый и необыкновенно широкоплечий. Один кипел энергией, напряженный как струна; он искал схваток с начальством. В другом все чувства глубоко спрятаны, внешне сдержан, в решениях нетороплив. Но от того, что решил, не отступит. Петров — большевик.
«Так вот они какие!» — думал Иустин. Каторжный доктор ему нравился мужеством, силой. А подпоручик показался очень уж щуплым, — не понять, в чем душа держится.
Письменчук теперь почти не отходил от Жадановского. В камере только и слышно: «Борись Петрович» да «Борись Петрович».
Первым делом матрос забрал у Жадановского рубашку и залатал дыры. Аккуратно убрал и подшил бахрому на рукавах. Потом начал укорять его, что он такой худущий, о себе совсем не думает, а теперь на хлебе и воде совсем пропадет.
Все посмеивались над усатой нянькой. Но Письменчук не обращал на это никакого внимания. Жадановский смущенно говорил ему:
— Напрасно вы возитесь с моей одежонкой, и вообще все это делаете напрасно…
Но он уже не ругался и не сердился из-за ненужной опеки, понимая, что тут никакие возражения не помогут.
— Ты взаправдашнее дите, как есть дите, — донимал его Письменчук.
Разжалованный подпоручик говорил матросу «вы», а тот, словно подчеркивая, что на каторге существует только старшинство лет и вообще так теплей выражается отношение к товарищу, говорил ему «ты».
Миновал десятый день всеобщего карцера.
Лихтенштадт, Петров, Жадановский по очереди запрашивали соседние камеры. Оттуда отвечали:
— Держимся!
Каторжане по-прежнему не признавали начальства. С утра до вечера распевали, гремели кулаками в двери. Крепость в те дни походила на кипящий котел, накрытый чугунной крышкой.
На пятнадцатый день в камере появился каторжник с опухшим лицом, с набрякшими мешками у глаз. Иустин едва мог узнать в нем Смолякова. С трудом поднимая веки, он говорил Жуку:
— Видишь, укатали сивку крутые горки. Ну, это ничего, пройдет…
Смоляков старался улыбнуться, губы не слушались. Он шатался. Орлов на руках отнес его в угол камеры и положил на тряпье. Каторжане сами делали ему примочки. От медицинской помощи они с начала протеста отказались. Питались только хлебом. Его не хватало. Но каждый отщипывал от своей порции кусочек для Смолякова.
Двадцать второй день был особенно тяжким. Через камеру проходили трубы от кочегарки. Летом ее не топили. Но на этот раз где-то в подвалах разожгли печи.
Нестерпимо душно стало в каземате. Люди толпились возле двери, чтобы вдохнуть скупую струю свежего воздуха, пробивающуюся сквозь щель. У многих начался голодный понос. Больные вместе с здоровыми лежали на полу.
По нескольку раз в день стучали из соседних камер. Владимир отвечал:
— Все в порядке.
Люди передвигались, держась за стенки. Все так исхудали, что перестали узнавать друг друга. В камере всегда был полумрак. Встретясь лицом к лицу, спрашивали:
— Кто ты?
На двадцать пятый день стало известно, что в крепость введены войска, две конвойные роты.
Всем стало ясно: близится развязка. И тогда каторжане решили сделать последнюю ставку. Этой ставкой была жизнь.
Они объявили голодовку. Решение о том принималось «парламентским» путем. Каждый, чьим мнением дорожила каторга, был запрошен по этому поводу. «Да, голодать», — ответил Лихтенштадт. «Да, голодать», — сказали Петров и Жадановский.
Они понимали, на что идут. И потому, отвечая «да», сошлись также на том, что голодовка не для всех.
Владимир убеждал наиболее ослабевших товарищей отказаться от этой, во всех отношениях последней меры.
Письменчук со слезами на глазах говорил Жадановскому:
— Богом прошу тебя, не голодуй. Ты первый помрешь, кому в том польза?
Борис Петрович смотрел на него своими увеличившимися и просветлевшими глазами.
— Вы невозможное говорите, — отвечал он матросу, — и сами знаете, что невозможное.
Орлов подошел к Владимиру с несколькими уголовными.
— Такое дело, — сказал Орлов, — и мы с вами. Значит, уж до точки вместе…
Голодовку объявили Владимир Лихтенштадт, Федор Петров, Борис Жадановский, Иван Письменчук, Иустин Жук — на всем острове около семидесяти человек.
Затих четвертый корпус. Затих третий корпус. Смолкли песни. Решено не петь, чтобы сберечь силы.
По вечерам каторжане устраивали свою собственную перекличку. Камера спрашивала камеру, все ли живы.
Как это ни удивительно, легче других переносили голод люди физически слабые: Лихтенштадт, Жадановский.
Борис Петрович обходил неподвижно лежавших товарищей. Одному подсунет свернутое одеяло под голову, другому оботрет запекшиеся губы, третьему поправит кандалы. Их тяжесть теперь казалась нестерпимой. Немногие могли двигаться, волоча их за собой.
Жук дивился маленькому Жадановскому:
— Ты могутный, я думал, тебя щелчком перешибить можно.
— Я человек военный, ко многому привычный, — отвечал Борис Петрович.
Жуку приходилось трудно. Его молодое, огромное, жаждущее тело не хотело умирать. «Жить! — кричало в