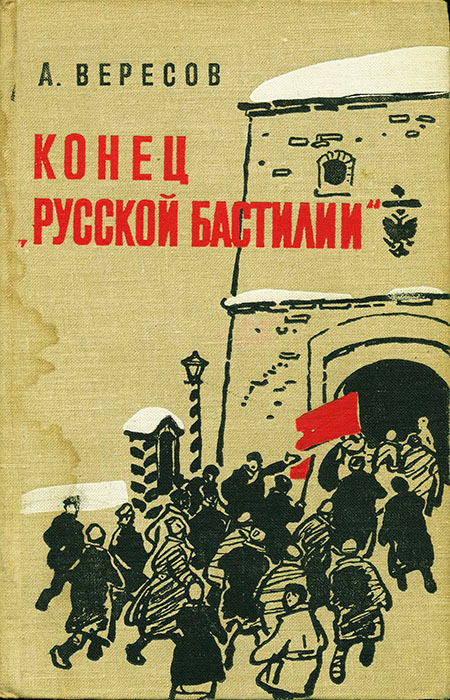нем наперекор всему. — Жить!»
Временами он стонал. Стон походил на рев. Когда Владимир испуганно окликал его, он говорил:
— Не тревожься, мне так легче…
Письменчук умирал. Строгое, заросшее волосами лицо матроса все время было повернуто к свету.
— Эх, не послушался ты меня, — едва шевеля истончавшими губами, укорял он Жадановского, — видишь, до чего трудно…
Слова эти произносились так, будто помирал не он, матрос Письменчук, а дорогой друг его, «Борись Петрович».
В свой последний час матрос бредил. Он приподнимался на локте и, задыхаясь, кричал:
— Держи на маяк!.. Видишь огонь?..
Для него уже не было ни тесного каземата, ни крепостных стен.
Вечером, на братской перекличке каторжан, Жадановский простучал:
— Нет Письменчука…
Зимберг находился в величайшем смятении. В петербургских газетах появились сведения о голодном бунте в Шлиссельбургской крепости. Опасались запроса в Государственной думе. Тюремное ведомство требовало водворения порядка любыми средствами.
Что означало — «любые средства»? Остров был переполнен солдатами. Но мысль о том, чтобы двинуть их против людей, для которых не существует страха смерти, — сама эта мысль казалась нелепой.
Все же бунт должен быть прекращен, чего бы это ни стоило.
Зимберг не посмел сам обойти камеры голодающих: он страшился каторжан, у которых жили только глаза.
Василий Иванович отправил кого-то из канцеляристов сказать, что господин начальник крепости обещает в будущем телесных наказаний не применять. Обращение с заключенными будет вежливым. И для библиотеки они получат книги по общественным вопросам. Но… разумеется, с изъятиями.
Победа была одержана осенью, на второй месяц с начала протеста.
Силы возвращались к людям медленно. Голодовка закончена. Но из камер то и дело выносили безнадежно больных…
Зимберг опасался нарушить свое слово. Он понимал, что с зачинщиками нельзя расправиться здесь, на острове. Владимир Лихтенштадт, Борис Жадановский, вместе с другими, кого тюремщики считали главарями мятежной каторги, были переведены в Орловский централ.
Многие просто исчезли из поля зрения товарищей, — такое в крепости случалось часто. Смолякова перевели в больницу. Никому не известной осталась судьба Богданова…
────
Иустин старался по возможности точно вести счет дням. Он отмечал их ногтем на дверном косяке. Часто сбивался со счета. И тогда мучительно старался угадать, какой нынче день и какой месяц. Ему помогали в том солнечные лучи, цвет травинок, форма лунного диска, приход сумерек и утренние зори.
По расчетам Иустина эта встреча произошла осенью, не позже октября. Во время прогулки Жук смотрел на идущего впереди каторжанина. Этого человека, черноусого, с почти сросшимися бровями над крупным носом, Иустин видел впервые: его, наверно, привезли недавно.
При каждом повороте он смотрел черными любопытными глазами на Жука. Наконец спросил:
— Ты отчего сердитый?
Он говорил тихо, не оглядываясь. Со стороны не заметишь, что узники беседуют.
— Сердитый и сердитый. А тебе что?
— Ну, кипяток, — усмехнулся черноусый.
— Ты бы радовался, когда твоих товарищей невесть где мордуют? — спросил Жук.
Безмолвно прошли мимо солдата. Чуть отдалились от него, черноусый опять заговорил.
— Такая уж наша судьба, дорогой. Только, скажу тебе, революционеры — самый веселый народ.
Иустин прислушался к гортанному, с сильным восточным акцентом голосу. Спросил дружелюбней:
— Веселый? Почему так думаешь?
— Зачем печалиться, дорогой? За нами будущее.
Прогулка близилась к концу. Жук успел еще задать вопрос:
— Как звать тебя?
— Серго. Просто — Серго, — ответил черноусый.
— Поют!
Эту весть в заводской поселок принесла Зося. Она помогала матери обстирывать артель коногонов. И в тот день возила в Шлиссельбург белье.
Возвратясь, она побежала к низенькому, сложенному из красного кирпича зданию конторы. Там Муся работала счетоводом.
Зося не хотела заходить в контору. Девушка прыгнула на вкопанную в землю скамейку и постучала в окошко.
Узнав новость, Муся шепнула подруге, что о том надо дать знать Игнату Савельичу и что это легче всего сделать через Ванюшку.
После полудня Зося, Иван Вишняков и дядя Игнат поехали на шлюпке в Шлиссельбург. На бортах шлюпки белой краской было выведено: «Орешек».
Игнат Савельич сам строил свое суденышко — выбирал для него доски, морил их в воде и потом сушил до звона. Сам выгибал килевой брус из старой, закаменелой сосны. В Шереметевке, в полуразвалившейся сараюшке, сколачивал лодку, конопатил ее. На печурке чадила и кипела смола.
«Орешком» дядя Игнат любил похвастать. Но истинной гордостью его была не шлюпка, а довольно громоздкое сооружение, которое пристраивалось под кормой. Больше года трудился над ним «слесарь-чудодей» в своей мастерской. Когда его спрашивали, что это за выдумка, он отвечал не таясь:
— Будет у меня лодка-самоход.
И действительно, как-то в воскресный день в Шлиссельбурге тихую воду петровских каналов всколыхнул «Орешек». Он плыл без весел. Игнат Савельич, закатав рукава, управлял тарахтящей, выбрасывавшей едкий дым машиной. Она приводила в движение колесо с широкими ступицами. Ступицы плюхались о воду и толкали лодку вперед.
Двигалась она медленно. Потом и совсем остановилась. Слесарь веслом подтолкнул ее к бережку. В широкую воронку опрокинул бутыль с керосином. Снова задымила машина, поднимая брызги, заработали ступицы. Пенная дорожка взбурлила воду.
На мостах через каналы и на дамбах толпились ладожцы, махали фуражками, что-то кричали слесарю. Весь Шлиссельбург хвалил «Орешек».
Причалив суденышко к пристани, Игнат Савельич вышел отдышаться, покурить. Он не мог сам свернуть цигарку. Руки у него были черные, пропитанные керосином. Кто-то из заводских насыпал табаку из своего кисета, сунул самокрутку в сивые усы слесаря, зажег ее и предупредил:
— Руками не трожь. Сгоришь.
Расталкивая толпу, к слесарю подошел управляющий Эджертоновской мануфактуры. Он осмотрел шлюпку, поковырял машину и сказал, что дело это стоящее. Он по поручению своего хозяина предложил Савельичу перейти работать на фабрику.
— Один сахар, что здесь, что там, — ответил слесарь, сплевывая догоревшую самокрутку.
Немногословно растолковывал он заводским приятелям устройство машины и обещал:
— Дайте мне годик, и я это чудище перекрою. Сделаю его махоньким, одной рукой подымешь, а сила в нем будет тройная!
Но слесарю годика не дали. Не пришлось ему еще поработать над своей выдумкой…
Сейчас Игнат Савельич, Ванюшка и Зося пересекали Неву на моторке. В борта шлепали волны, которые всегда бурлят в истоке.
В Шлиссельбурге над двухэтажным домом благородного собрания повис на безветрии трехцветный флаг. Поднят он в честь дворянского съезда по случаю выборов уездного предводителя.
На набережной прогуливался цвет городского общества. Баронесса Медэм, спустив с плеч шелковую шаль, выступала с важностью. Наклоня голову, она слушала выспренную болтовню вдовы лесничего.
Управские писаря, разомлев на жаре, лениво ухаживали за барышнями. В дверях лавок, за толстыми столбами гостиных рядов