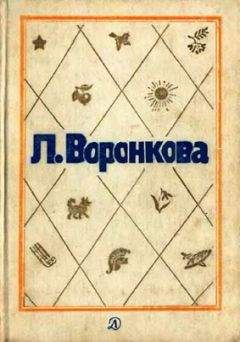Около крутой, обрывистой скалы стоял небольшой аил. Перед аилом дымился костер. В тени густого, угрюмого кедра спали пастухи, которые пасли табуны ночью. Сразу две собаки выскочили откуда-то и подняли лай. Пастухи приподнялись, протирая глаза, и никак не могли понять, кто приехал.
— Сейчас бригадира позову, — сказал пастух Кине и, запрокинув голову, пронзительно закричал, словно затрубил в трубу: — Э-ге! Талай!.. Талай!..
Вскоре наверху, в чаще, послышался конский топот, и на луговину вылетел всадник на тонконогом вороном коне. Конь дико косил горячими глазами и слегка дрожал. Всадник соскочил с седла, ласково похлопал коня по лоснящейся шее — иди! — и, сняв шапку, поклонился смотрителю:
— Здравствуй, Торбогош! Давно не был… Слезай со своего Серого, тебе покушать надо!
Но дед Торбогош, не слезая с коня, обратился к Чечек:
— Ты как, внучка? Ступай отдохни.
Чечек взглянула на деда:
— А ты, дедушка?
— Я потом, — ответил дед, — сначала лошадей посмотрю.
Чечек очень проголодалась. Она бы сейчас что хочешь съела — и сырчик, и кусок хлеба, и кусок мяса, и, кажется, целый аркыт[18] чегеня выпила бы… Но она сдержанно поджала губы и сказала:
— И я потом.
Пастухи между тем окружили Чечек:
— Ай, балам![19] В тайгу приехала! Гляди — хорошо на лошади сидит!
— Может, тоже смотрителем будет!
— Лошадей любишь? Молодец! Любит лошадей!..
— Ай, балам! Слезай, покушай!..
Уставшие от своего долгого лесного одиночества, они все улыбались ей: такая радость — новый человек в тайге! Да еще ребенок, девочка. Почти у всех у них в стане или на фермах остались дети и внуки, о которых много думалось в одинокие глухие часы и потихоньку тосковало сердце…
Дедушка Торбогош обратился к Талаю:
— Сколько у тебя в табуне?
— Сто сорок семь маток, тридцать восемь жеребят.
— Верно?
— Да как же! Не первый день в бригаде.
— Прогони!
Бригадир Талай, быстро взглянув в неподвижное, суровое лицо смотрителя, чуть-чуть усмехнулся:
— Ну что ж, прогоним!
Он кивнул пастухам. Пастухи торопливо направились к своим лошадям, которые паслись около аила. А смотритель, бригадир и за ними Чечек спустились на широкую притоптанную луговину. Луговину пересекал забор из тонких жердей. Четкая синяя сквозная тень лежала от него на траве, а посреди забора отчетливо светились небольшие открытые ворота.
Ждали молча, неподвижно. Молчал старый Торбогош. Молчал скуластый бригадир Талай, прищурив свои блестящие, живые глаза. Молчала и Чечек. Солнце пригревало ей спину, размаривало, навевало дрему. Долго ли придется ждать? А вдруг долго? Тогда Чечек просто уснет да и свалится с седла всем на потеху.
Но вот послышался вдали неясный топот множества копыт, лай собак, посвисты пастухов…
Чечек встрепенулась, подняла отяжелевшие ресницы, подбодрилась. Рыжий Арслан вздернул голову и переступил с ноги на ногу.
— Гонят!..
Табун шел из тайги и по светлому склону спускался на луговину. Лошади легко бежали, перегоняя друг друга, слегка толкаясь. Матки ржали, подзывая жеребят; жеребята прижимались к маткам, мешая им бежать, и пугливо косились по сторонам.
Старый Торбогош поправился в седле, вынул изо рта потухшую трубку и засунул ее в сапог. Талай приподнялся на стременах, махнул пастухам рукой:
— Прогоняй!
Пастухи подогнали табун к самому забору. Лошади столпились, закружились на месте, как кружится внезапно запруженная вода; и как вода, нашедшая щель в плотине, просачивается в нее узкой струйкой, так и лошади, заметив открытые ворота, одна за другой сначала проскакивали в них, а потом, подгоняемые сзади, пошли чередой.
Чечек взглянула на деда: он стоял на стременах, устремив зоркие глаза в ворота, и шевелил губами. «Считает! — догадалась Чечек и тихонько улыбнулась. — Вот ведь какой! Что говорят — не слушает, все надо самому проверить».
Табун по одну сторону забора становился все меньше, а по другую сторону — все больше. Вот наконец прошла последняя матка, и жеребенок, боясь отстать, протиснулся вместе с нею. Дед Торбогош, сдвинув брови, обернулся к бригадиру:
— Тридцать восемь жеребят. Сто сорок пять маток. А где еще две?
Талай немножко смутился:
— Да вот… одна на отделение пошла, за хлебом. На другой конюх уехал. А так все целы, Торбогош!
— А почему не докладываешь, как надо? Так должен и доложить: сто сорок пять маток, тридцать восемь жеребят, две матки заняты в хозяйстве. Когда я тебя научу? А если бы директор вдруг наехал, так я бы перед ним дураком оказался! Сколько говорю: точность нужна, точность! Смотри, Талай, последний раз тебе это спускаю!
Всю обратную дорогу к аилу Талай молчал и только слегка пожимал плечами. Дед Торбогош молчал тоже. И только около аила, сойдя наконец с коня, сказал:
— Вот я тут газеты привез… — Он вынул из кожаной сумки пачку аккуратно сложенных свежих газет. — Вот газеты, Талай. Тут о Североатлантическом договоре есть. Опять Америка с Англией сговариваются, как бы весь мир захватить. Вот нет им покоя, а? Ну так вот, Талай: пусть Кыдраш прочтет все это хорошенько и пастухам доклад сделает — вообще о международном положении и об этом договоре… Ну и обо всем, конечно, что в стране делается, какие стройки идут. А вот тут и наша есть, Горно-Алтайская, пускай вслух прочтет.
— А сумеет ли?
— Ничего, сумеет. Он же комсомолец, в партию заявление подавать собирается. Что не сумеет — ты поправь. Молодых учить надо… А теперь говори: какие тут у вас дела в бригаде? Чего не хватает? Что прислать нужно? Больных нет ли?..
Ночные пастухи тоже вернулись к аилу. И вскоре все сидели у костра, около дымящегося котла с жидкой кашей из ячменя, сваренной на кобыльем молоке.
— Эх, что это за еда! — сказал Талай. — Кабы мы знали, что гости будут… Нуклай, — обратился он к старому пастуху, — ты бы взял ружье да сходил за козлом нам на ужин!
— Можно сходить, — отозвался Нуклай.
Чечек досыта наелась каши, досыта напилась кислого молока и почувствовала, что глаза у нее закрываются.
— Ложись поспи, — сказал дед Торбогош.
Талай вынес из аила белую кошму и расстелил в тени под кедром:
— Ложись, Чечек.
Засыпая, Чечек смутно слышала негромкие разговоры у костра:
— Спичек побольше пришли, Торбогош. Мыла не забудь — молодые много мыться стали. Только давай и давай мыла! Чаю хорошо бы. От чая сердце у людей веселеет…
А потом вдруг запела птица какая-то в кедровых ветках.
«Это клест…» — подумала Чечек. И тут же сама стала красноперым клестом, засмеялась и вспорхнула вверх, к небу, к розовому облачку, повисшему над горами.
— Ишь смеется во сне! — сказал бригадир Талай. — Видно, хороший сон снится!
А дед Торбогош, с улыбкой в глазах, кивнул головой:
— Теперь детям и сны хорошие, и жизнь хорошая… А мы-то разве так росли!
Вечером у костра был пир: жарили дикого козла, которого убил старый охотник Нуклай. Хорошо поужинали и развеселились.
— А вот давайте послушаем, как внучка стихи читает, — сказал подобревший дед Торбогош. — Прочти-ка, внучка, про пастуха, который на горе стоял!
— Вот ты, дедушка, опять про пастуха! — сказала Чечек.
Но пастухи стали просить:
— Прочти, Чечек, прочти, пожалуйста!
Чечек встала перед костром так, чтобы ее всем было видно, и начала:
Он стоял на холме высоком,
Словно вылит из смуглой бронзы…
Последние слова стихотворения Чечек выкрикнула звонко и отчетливо, каждое слово прозвенело серебром в тишине тайги:
…Снова песня плыла в долине,
Песне вторили лес и горы.
Шел колхозный пастух по травам,
Словно к новым вершинам счастья!
— Ой, якши, балам! Ай, хорошо! Ай, хорошо!.. — зашелестело вокруг костра.
Улыбающиеся загорелые лица — и молодые и старые — добрыми глазами глядели на Чечек.
— Кто же тебя так научил, дочка? — спросил охотник Нуклай.
— В школе научили, — сказала Чечек. — Я теперь в русской школе учусь. В шестой класс перешла. Меня в пионеры приняли — вот красный галстук ношу!
— О, большим человеком будешь! Учись, дочка!
— А может, еще что знаешь? Расскажи нам!
— Не ленись, Чечек! — сказал дед Торбогош. — Повесели людей: у них гости редко бывают.
Чечек прочитала еще несколько стихотворений по-алтайски, прочитала «У лукоморья…», спела своим тоненьким голоском пионерскую песню, которую они разучивали в школе, рассказала про чудесное дерево — яблоню, — которое цветет розовыми цветами и на котором вырастают сладкие яблоки, и про школьный сад рассказала. Хотела уже и про «самого умного, самого доброго человека» рассказать, но… голубые глаза искоса взглянули на нее, насмешливый голос произнес: «Эх ты, бурундук!» — и Чечек смутилась… и умолкла.