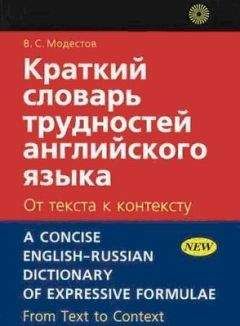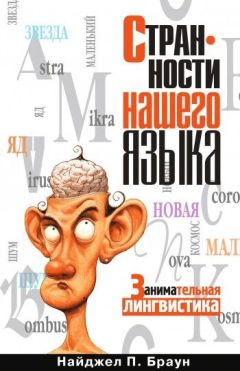чтобы каждый из вас посвятил ближайшие двадцать минут случаю из своей жизни, который можно описать с помощью метафоры вкуса. Стол номер один, вы пишете о сладких воспоминаниях. Стол номер два – о солёных. И так далее.
Руки всех сидящих за столом номер пять сразу взлетают вверх. Мистер Ландау говорит:
– Наташа?
– А умами-воспоминание – это как? – спрашивает она.
Мистер Ландау предлагает ей мысленно заменить «умами» на «очень вкусное».
Наташа кивает и моментально начинает писать.
За столом номер шесть нас всего двое: я и Боб Инглиш с Фломастером. Шестого вкуса на доске нет. Я знаю, что Боб не поднимет руку, потому что он никогда этого не делает, и он знает, что я не подниму руку – по той же причине. Поэтому мы просто переглядываемся и пожимаем плечами.
– Чуть не забыл, – говорит мистер Ландау. Он подходит к доске, пишет на ней «горько-сладкое» и рисует слева шестёрку. – Двадцать минут.
Моё горько-сладкое воспоминание: нам с Джейсоном лет примерно по шесть или семь. Осенний солнечный день. Мы стоим перед входом в супермаркет «Мет фудз» на Флэтбуш-авеню и смотрим на большие пластмассовые мячи в проволочной корзине перед входом. Моя мама стоит рядом и ждёт нас, чтобы всем вместе идти в супермаркет.
Мы уже собираемся туда заходить, когда слышим глухой удар, как будто кто-то запустил маленьким каучуковым мячиком в витрину – вот только рядом никого нет.
А потом мы видим птицу. Она лежит на тротуаре. Она крошечная и коричневая, и лежит как-то неправильно, и Джейсон пугается и кричит, а у меня к глазам подступают слёзы, потому что мне кажется, что вдруг это мы сделали что-то такое, что убило эту птицу.
В следующий миг мама прижимает нас обоих к себе и говорит, что мы ни в чём не виноваты. Просто солнце освещает чистую витрину так ослепительно ярко, что в ней отражаются деревья, которые растут через дорогу, вот птица и не заметила стекла. Она думала, что просто летит к деревьям, как всегда.
Мама заставляет нас сделать несколько вдохов и выдохов. Потом она поворачивается к птице и говорит нам: «Глядите!»
Мы глядим. Птица трепещет, её шейка пульсирует. Джейсон опять пугается, он думает, что у птички приступ или типа того, но мама объясняет, что это просто бьётся птичье сердце. Сердца у птиц бьются очень быстро.
«Она жива, – говорит мама. – Её, наверно, просто оглушило, когда она ударилась о стекло».
И тут птичья головка поворачивается и приходит в правильное положение, и птица подпрыгивает и встряхивает перья. Мы начинаем смеяться и хлопать друг друга по ладоням.
Мама говорит, что это надо отметить. Она разрешает нам с Джейсоном выбрать себе по мячу из проволочной корзины и покупает их нам.
Понятия не имею, где теперь этот мой мяч, и уверен, что Джейсон свой мяч тоже не сохранил.
Ничего этого я, конечно, не пишу на своём листке. Честно говоря, я вообще ничего не пишу.
Я смотрю на Боба Инглиша с Фломастером и обнаруживаю, что и он ничего не пишет. Он рисует суперзлодея с заострёнными ушами и в ниспадающем волнами плаще. Боб, должно быть, чувствует мой взгляд, потому что он поднимает на меня глаза, что-то быстро калякает в блокноте и подсовывает его мне.
В уголке страницы написано:
Я наклоняюсь к нему:
– Ты знаешь, что «абсурд» пишется через «б» и «д»?
– А ты не слыхал про реформу орфографии? – шепчет он в ответ.
– Нет.
– Это когда пишется как слышится. Бен Франклин и Тедди Рузвельт тоже были за это. Можешь проверить.
– Окей.
– Вот спроси себя: зачем в этом слове «б» и «д»? В чём их смысл?
– Мистер Инглиш! – резко произносит мистер Ландау. – Полагаю, вы уже закончили свою работу и готовы поделиться ею с классом?
Боб Инглиш склоняется над своим рисунком ещё ниже и ничего не отвечает. Я тоже помалкиваю. Честно говоря, слово «апсурт» выглядит вполне абсурдно.
Горячий школьный обед состоит из макарон с мясным соусом. Это очень вкусно. Может, и не умами, но вкусно до обалдения. Вряд ли кто-то, кроме меня, станет это есть, потому что в этой школе, если ты берёшь на обед хоть что-нибудь, кроме чёрствого крошащегося бублика, ты тем самым практически признаёшь себя фриком. Всё равно что пройтись по школе без штанов.
А я всё равно беру себе горячий обед. Я считаю, что в человеческой жизни и так хватает чёрствых корок, поэтому видишь мясной соус – хватай и ешь. Что я и делаю.
Когда я приканчиваю булочку со специями, ко мне с подносом в руках подходит Джейсон. Но он не собирается садиться рядом. Он просто идёт от стола для крутых к мусорным контейнерам. А я – точка на этом отрезке.
– Привет, – говорит он.
– Привет.
– Мне мама сказала, вы продали ваш дом.
Я киваю:
– Угу.
– Вы переехали в квартиру?
– Угу.
– А свою пожарную лестницу ты забрал с собой?
– Нет. Её пришлось оставить.
– Ох, чувак. Жалко.
Я пожимаю плечами:
– Всякое бывает.
– Ну да. Но родители у тебя всё равно крутые, скажи? Так что всё будет, ну, типа норм.
– Это точно, – говорю я ему. – Всё будет норм. Всё уже норм.
Он кивает и идёт дальше.
Трудно его ненавидеть, хоть он и отбросил нашу дружбу как что-то ненужное. Трудно, потому что я весь год за ним наблюдаю, и под своими скейтерскими шмотками он такой же, каким был всегда. Не пойму, от этого ещё хуже или, наоборот, лучше. Я смотрю, как Джейсон вытряхивает мусор. Обёртка от бублика прилипает к подносу, и он не торопясь её сковыривает, прежде чем поставить поднос поверх стопки.
После школы Бенни отсчитывает мне мою сдачу и говорит:
– А я сегодня видел твою подружку.
– Кого это?
– Карамель.
– А, – говорю я и ссыпаю монетки в карман. – Она мне не подружка, она просто живёт в моём доме. В том, куда мы переехали.
– Одна из лучших моих покупательниц! – кричит Бенни мне вслед.
С моим ключом дела почему-то всё хуже. Чтобы попасть в квартиру, приходится елозить им в замке и одновременно тянуть дверь на себя изо всех сил. И всё время, пока я так вожусь, за дверью разрывается телефон.
– Алло!
– Поднимайся ко мне, – говорит Верней.
Карамель впускает меня, и я иду за ней по коридору, стараясь запомнить всё, что на ней надето.
Со словами «он там» Карамель