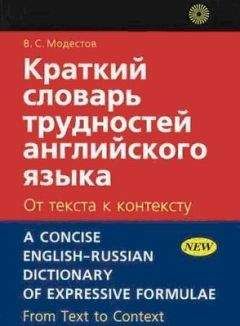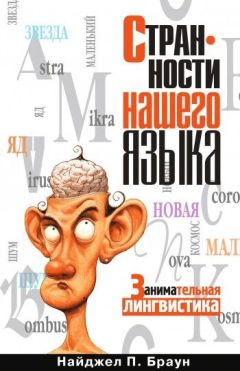с его ослепительной улыбкой, которая ни на миг не слезает с лица. Диск выползает ко мне, я беру его двумя пальцами и смотрю на мамин почерк на наклейке:
Улыбайся почаще, Огуречик. Я тебя люблю.
Гадкий вкус по-прежнему во рту. Я знаю, что это. Это вкус притворства. Вкус лжи. Вкус конца игры.
Мышца в дальней стенке горла напрягается, дрожит, и я ничего не могу с этим поделать. На секунду мне кажется, что меня сейчас вырвет, но потом я понимаю, что нет, я сейчас запла́чу.
Я плачу на своей кровати, которая старая папина. Сначала вкус во рту делается ещё хуже, хотя казалось, что хуже некуда: что-то вязкое и мерзкое, как смола, заполняет рот и ползёт вниз, в горло, и вверх, в нос. Но я всё равно плачу, потому что не могу не плакать, и, кажется, сейчас задохнусь.
Но потом вкус меняется. Что-то смывает эту смолу прочь. Я растворяюсь в слезах и исчезаю, и я хочу, чтобы так всё и оставалось, хочу раствориться, исчезнуть, просто лежать на кровати, и пусть тело само избавляется от этого ужасного вкуса.
Я не хочу думать, не хочу слушать свои мысли. Вместо этого я гоняю перед глазами картинки, одна грустнее другой: мама, которая смахивает мне чёлку со лба и целует меня; нога Далласа Луэллина у меня на животе; мамин чемодан стоит у двери, а папа бежит назад в спальню за её подушкой; выражение его лица, когда он бежит обратно с подушкой под мышкой, – и все эти картинки вспыхивают, как спички, и сгорают, и острый запах проникает через нос прямо в мозг. Голова начинает кружиться, но тут картинки заканчиваются, и вкус слёз становится лёгким и прозрачным и напоминает мне про Кейп-Код и океан, и я хочу, чтобы это длилось и длилось, длись, говорю я, длись, но это странное слово-полумысль как будто снимает с меня заклятие, и я понимаю, что всё это, наоборот, не будет длиться, а вот-вот кончится, – и внезапно опять становлюсь собой, впервые с того момента, как я стоял перед телевизором, не понимая, вырвет меня сейчас или что.
Мама потеряла сознание в кухне, в том нашем доме, две недели назад, когда паковала кулинарные книги для переезда. Она упала и ударилась головой об пол, с ужасным звуком.
Папа потрогал её и закричал на весь дом: «Она горит, горит!»
Мама очнулась и велела папе сохранять спокойствие. Никаких «скорых», сказала она. Поедем в больницу на своей машине. Ей нужны кое-какие вещи. И подушка, её собственная подушка. Она говорила всё, что и должна была говорить мама, но только голос у неё дрожал и был абсолютно не похож на мамин.
В больнице её сразу увезли на каталке, а нас медсёстры отвели в специальную комнату и велели ждать. Потом папа куда-то исчез, а я ждал и ждал, а сёстры всё бегали туда-сюда. И всякий раз, когда какая-нибудь сестра подходила ко мне, я думал, что сейчас она скажет мне плохое, и моё сердце устремлялось вверх, в горло; но всякий раз сестра просто вкладывала мне в руку бумажный стаканчик с имбирным лимонадом и льдом или пакетик солёных крендельков и подмигивала, и я не получал ответа на вопрос, который боялся задать.
Наконец, наконец появился папа и сказал мне, что врачи говорят, что у мамы серьёзная инфекция и что она подхватила её у одного из пациентов в отделении интенсивной терапии. У них есть лекарство от этой болезни, сказал папа, но лечить надо в больнице, потому что это лекарство должно поступать в кровь через капельницу, так что маме придётся остаться. Она должна быть под наблюдением врачей. Примерно неделю. Или две.
Я помню, как подумал: мама наверняка сказала бы мне точное название этой болезни. Она бы сказала что-то вроде: «Джордж, у меня вирус игрек, штамм зет. Ничего хорошего, но медицина умеет с этим бороться, так что я не скончаюсь внезапно у тебя на руках». Однако сейчас никто ничего подобного не говорил.
– Всё будет не так ужасно, – уговаривал меня папа. – Это будет так, будто у мамы дубль. Мы глазом моргнуть не успеем, как она снова будет дома. Окей?
Я кивнул, стискивая в руках три пакетика солёных крендельков.
Вошла медсестра и сказала, что теперь мне можно увидеть маму. Мама лежала в отдельной палате в конце коридора.
Мы пошли туда.
И вот тогда-то на меня и нашло.
Я лежу на кровати, крепко сжимая полоску сыра и диск, на котором наклейка с мамиными словами, и просто дышу. Потом иду в ванную и умываюсь. Гляжу на себя в зеркало, но не улыбаюсь, не хочу.
Я звоню. Мне незачем смотреть на записку на холодильнике – мамин больничный номер я прекрасно запомнил за все те разы, когда смотрел на него и решал не звонить.
Папа берёт трубку.
– Я хочу завтра поехать с тобой, – говорю я ему. – Завтра я провожу день с вами. В больнице.
В трубке тишина.
– Да? – говорит он наконец. – Прекрасно. Я утром позвоню в школу, и мы сразу поедем.
– Я могу с ней поговорить? Она может говорить?
– Конечно может! Ей гораздо лучше. Но сейчас она спит. Погоди, я посмотрю, может, она уже просыпается.
– Нет, нет. Не буди её.
– Джордж, как сегодня было в школе?
– Лучше, – отвечаю я. – Сегодня – лучше.
Папа говорит, что через час он уезжает из больницы и мы поужинаем вместе, но я говорю ему, чтобы не спешил, что у меня всё норм. Тогда он говорит, что вернётся домой до того, как я пойду спать. Я думаю, не приготовить ли яичницу-болтунью. Но вместо этого ноги сами выводят меня из квартиры, поднимаются по ступенькам, а рука нажимает на кнопку звонка Вернея.
Я слышу шаги.
– Кто там?
Это голос Вернея. Прямо за дверью.
– А где Карамель? – спрашиваю я. – Твой швейцар в отпуске, что ли?
– Кажется, я слышу «тук-тук»?
– Верней, я знаю, что это ты. И ты знаешь, что это я.
Но он повторяет:
– Кажется, я слышу «тук-тук»?
Ладно. Поиграем, если ему так уж хочется.
– Тук-тук, – говорю я.
– Кто там? – говорит Верней.
– Корова-перебивалка. – И я начинаю набирать в грудь воздух, потому что Верней у меня сейчас отлетит на три ярда. Едва он начнёт своё «корова-пере…», как я издам самое длинное и громкое «му» в истории планеты Земля.
Но Верней не говорит «корова-пере…». Вместо этого дверь распахивается, и он возникает передо мной