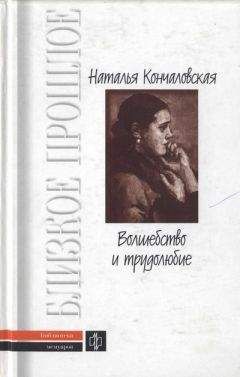Я очень сильно почувствовала эту встречу двух великих художников, когда работала над этим рассказом у себя на даче под Москвой. Я вышла в поле. Был ослепительный солнечный осенний день. Надо мной синел небесный простор, трава уже пожухла, вдали на пригорке осыпалась рощица над деревенским кладбищем, и воздух был свеж и прозрачен. Над убранным овсяным полем хлопотали грачи, собираясь к отлету, и было невероятно ярко и грустно. У меня в кармане был маленький транзистор, я случайно повернула затвор, и вдруг над полем грянул оркестр. Это был Четвертый концерт Рахманинова с его волнующе-лирическими восточными мотивами, с его ликующей медью, с раскатами фортепианных рулад и с такой пронзительной русской тоской и любовью, что я в оцепенении встала среди поля. И тут я вспомнила, что именно этот концерт заканчивал Рахманинов в год, когда позировал Коненкову, и поняла, что оба они одинаково тосковали по России и, конечно, эта тоска их сблизила. Я уверена, что ни тот ни другой не обмолвились о ней ни единым словом, но угадывали друг в друге одно и то же великое чувство притяжения и любви к родной земле.
И я встала со своим транзистором, и волшебной силы музыка сливалась с этим деревенским кладбищем, увядающими травами, с ослепительными, но печальными лучами солнца, пронизывающими воздух, прозрачный, как фортепианная трель Рахманинова…
Сергей Тимофеевич так и не хотел выучиться английскому языку. Меня удивляло его упорство, и однажды я спросила его:
— Крестный, а ты так и не хочешь знать английский?
На что он, смеясь, ответил:
— Нет! Два слова я знаю: это «хэм» (что значит ветчина) и «сигарет». Стало быть, сыт буду и нос — в табаке, а больше мне ничего и не надо. Все остальное — при мне!
Не помню, начал ли он впоследствии говорить по-английски, все же за двадцать два года, при всем нежелании, начнешь понимать чужой язык.
Все, кто встречал Коненкова в Америке, должны были заметить постоянную угрюмую встревоженность Сергея Тимофеевича. Со мной он часто шутил и смеялся, но я была тогда для него — кусочком родной земли. Он с удовольствием приходил к нам поесть зеленых щей с творожными ватрушками, просил меня отварить для него кусок говядины и ел ее с крупной солью и с хреном.
— Совсем как на Пресне, только Сироткина нету! — приговаривал он, прослезившись не то от чувств, не то от хрена.
Я тогда впервые оторвалась от семьи Кончаловских и сильно скучала по своим и потому целиком присоединялась к ностальгии крестного отца.
Маргарита, которой в ту пору было за тридцать, была очень хороша собой — тяжелый узел золотых волос на прелестной голове, загадочный прищур глаз, светская деликатная улыбка, длинная сигарета в тонких пальцах с изумрудными ноготками (тогда был в моде цветной лак). Она всегда следовала моде и была больше похожа на американку, чем на москвичку в Нью-Йорке. И однажды после русской трапезы, подзадоривая нас, она начала восхищаться американскими удобствами, а я, чуть не плача, вспоминала мастерскую на Пресне и зоопарк с лебедями на пруду. Муж мой Алексей, дымя трубкой, заводил нас обеих: Сергей Тимофеевич, как сыч забившись в подушки кресла, мрачно метался между Пресней и Бродвеем, пока Алексей дипломатично не предложил:
— А не поиграть ли мне вам Баха, Сергей Тимофеевич?
Сергей Тимофеевич просветлел лицом:
— Ах, как было бы прекрасно, Алексей Алексеевич, поиграйте, пожалуйста, это мой любимый композитор!
И Алексей сел за рояль, чтобы впервые за много лет играть «на публике». Он начал играть органную фугу Баха и вдруг на середине сбился и понес какую-то белиберду, подражая Баху. Алексей довольно долго импровизировал, а я, едва сдерживаясь от смеха, думала: вывезет или нет? Наконец он все же вывез, выбрался на финальные пассажи и закончил парадными аккордами с полным достоинством, с облегченным вздохом и абсолютно взмокшей рубахой.
Милые наши Коненковы ничего не заметили. Сергей Тимофеевич, видимо не так вникавший в музыку, как думавший о чем-то своем, сказал:
— Гениальный был композитор!
А Маргарита, как будто что-то заподозрив, сказала:
— Ну и память у вас, Алексей Алексеевич, такую длинную вещь запомнили и играете, не ошибаясь!
В Америке царствовал тогда «сухой закон». Помню, как однажды, придя в мастерскую, я застала необычайное зрелище: Сергей Тимофеевич, закатав брюки до колен, стоял в шайке посреди мастерской и топтал ногами черный виноград. С лукавой улыбкой и со сверкающими глазами он был похож на одного из своих деревянных фавнов. Брага из отжатого сока получалась кислой и пить ее было нельзя, поэтому я приноровилась готовить вино из бананов. Мелко изрубив их и заквасив эту массу сахаром и дрожжами, как обычный русский квас, я давала ему перебродить и закупоривала в бутылки. Вино получалось шипучее, золотистое, как шампанское, и очень хмельное. Хмель его отличался тем, что бросался не в голову, а в ноги, и потому «танцы после ужина с банановым вином отменялись»…
Постоянные думы Сергея Тимофеевича о России воскрешали любимые образы, тогда он работал с особым вдохновением, работал для себя, уйдя от действительности и вживаясь в эти образы. Так был сотворен портрет Достоевского — одно из лучших коненковских произведений, полное такой трагической экспрессии духовного одиночества, сомнений, размышлений и безысходности, что, видимо, только там, вдали от родной земли, мог скульптор так пережить и воплотить собственную тоску в творчестве.
В этот же период стали появляться в мастерской деревянные скульптуры чисто русского очарования — «Свистушкин», старичок сродни «Егору-пасечнику» и «Старичку-полевичку», сделанным в 1907–1910 годах. Появилось в нью-йоркской мастерской и совсем неожиданное — кресло «Лебедь», стол-пенек с белочкой, кресло «Удав», стул «Алексей Макарович», из-за которого выглядывает до того живой и добрый старичок, что хочется обнять его. Появилось кресло «Паутинка» с сиденьем из плетеного шнура, точно и искусно продетого сквозь разветвления дерева, и, глядя на эту работу, диву даешься изобретательности и наблюдательности скульптора. Все это были свидетели постоянного душевного состояния Сергея Тимофеевича.
Пришло время нам с Алексеем возвращаться домой. На прощание Сергей Тимофеевич подарил мне свою чудесную фотографию. Она хранится у меня и сейчас, и все всегда спрашивают, почему она так коряво и неразборчиво подписана. А дело было в том, что незадолго до этого Сергей Тимофеевич, любивший потягаться силой с кем-нибудь, схватился со своим формовщиком: поставив локти на стол, сцепив пальцы рук, они старались положить руку противника плашмя. Тут-то и сломал формовщик Коненкову большой палец на правой руке. Рука довольно долго не могла зажить, и все это вообще могло кончиться трагически. Но, к счастью, обошлось благополучно…