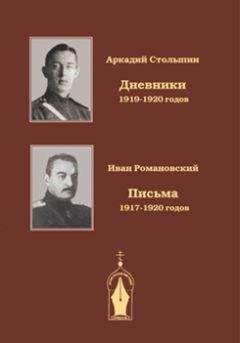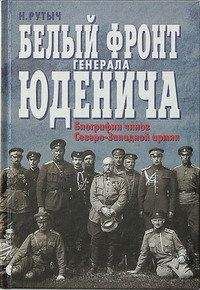В Германию он попал года за два-три до меня, работал чернорабочим на заводе Симменса и Шуккерта. Призрак войны все время преследовал его; в стихотворении, мне посвященном, он писал:
Заезжий двор. Казармы проходные.
Случайный мир, где даже сон в гостях…
Ты помнишь мрак, в котором звезды ныли.
Как у больного ноет жизнь в костях?
Высокий, очень худой, с костистым лицом, с угловатыми движениями рук, с длинными, прямыми ногами, — у него была странная походка: широкий и вместе с тем неровный шаг, — во всем облике Юры сквозила неуклюжесть, происходившая от большой застенчивости и странного сочетания талантливости и неуверенности в себе. В нем была большая, не сразу распознаваемая нежность. А щедрость его была удивительной: однажды я, как это иногда бывает, когда с кем-нибудь живешь душа в душу и часами читаешь друг другу стихи, свои и чужие, сам того не заметив, воспользовался образом Юры, запавшим мне в память: что-то вроде «солнечный капкан лучей». Юра мне ничего не сказал, а когда я сам сообразил, что образ-то не мой, он предложил мне изменить свое стихотворение:
— У тебя лучше получается. Да и в мрачных твоих стихах — живое пятно.
Я встречал людей, отдававших свою последнюю рубашку, но поэта, готового отдать свой образ и изменить стихотворение для того, чтобы друг стал богаче, — никого, кроме Юры, я за всю жизнь не встретил.
А сам Юра писал стихи такие, что и теперь я продолжаю их любить:
Гнул туман… Далекий полустанок
Придавила снежная гора.
Быстрый поезд бегал, как рубанок
Под тугой рукою столяра.
Падал дым и стружками седыми
От куста карабкался к кусту,—
Этот след встревоженного дыма
Заливал степную слепоту —
— И над снежной крышей полустанка.
Где гора снимала с туч пургу,—
Вспоминая лязганье рубанка,
Приподнялись избы на снегу.
Или другое стихотворение, посвященное жене Юры — Мирре Борисовне:
Старый клен твои инициалы
Засосет разбухшею корой.
Кто поймет тревожные сигналы
Этих веток, певших над тобой?
Кто поймет, что корень перекручен
Оттого, что я постичь не мог,—
Что дожди весенние — от тучи,
Что любовь — от боли и тревог?
Будет луч, распластанный о камень,
Ждать под небом дремлющей грозы,—
Чтобы клен, стареющий веками,
Мог понять любовные азы…
Я не знаю, как сложилась бы писательская судьба Георгия Венуса, если бы не его счастливая женитьба: Мирра Борисовна угадала в Юре талантливого писателя, заставила его бросить завод и позволила ему отдать свое время литературе. Они жили втроем, с давней подругой Мирры Борисовны Евой С. Вуся была существом необыкновенным: сама она не писала, но была из тех людей, кто мог вызвать у человека, казалось бы совсем далекого от искусства, волю к творчеству. Умница и тонкий психолог, обладавшая удивительным темпераментом зачинателя, она расталкивала людей сонных, у поверхностного умела найти глубину, и минутами мне казалось, что она из дурака могла бы сделать мудреца. Ее душевная щедрость была безгранична, и те, кто попадал в орбиту ее притяжения, вдруг начинали себя чувствовать богачами, принимая подаренное Вусей за свое собственное. Жили Венусы по-богемному бедно. Вскоре мы стали неразлучны.
В Берлине Юра писал стихи и только начинал писать прозу. В стихах он был близок к имажинистам. Однажды в кафе на Ноллендорфплац я застал его в состоянии необыкновенного возбуждения. Он попросил у меня папиросу, хотя обычно не курил, долго не мог разжечь ее и наконец, закашлявшись от дыма, сказал шепотом:
— Знаешь, кто сидит за соседним столиком?
Я оглянулся и увидел молодого человека с нечесаной копной очень светлых волос, с круглым, мягким лицом и странными, красноватыми глазами, какие бывают у людей после бессонницы или выпивки. Молодой человек был одет очень изысканно, но с той небрежностью, когда изысканность уже успела смертельно надоесть. Нечесаная копна золотых волос еще усиливала это впечатление.
— Не узнаешь? Ведь это же Есенин!
Я всем телом повернулся в сторону соседнего столика, но Есенин уже вставал. Рядом с ним появился Кусиков и, взяв его под руку, направился к двери. Полный живот Кусикова, с трудом охваченный сползающими черными брюками, казался еще выпуклее рядом с мальчишески легкой фигурой Есенина.
— Завтра их вечер. Неужели я доживу до завтра? — Юра даже начал заикаться от волнения.
До завтра мы с Юрой дожили, но я был мучительно разочарован. Я не знаю, кто из них был пьянее, Кусиков или Есенин. Есенин читал стихи, словно подражая самому себе, напряженно, срываясь, пропуская невспоминавшиеся строчки, сердясь на себя за срывы.
Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.
Пой, Сандро…
Впоследствии Есенин эту строчку, посвященную Кусикову, переделал:
Пой, мой друг. Навевай мне снова
Нашу прежнюю, буйную рань.
Пусть целует она другого,
Молодая, красивая дрянь.
Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой, я ее не кляну,
Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.
Горький, цитируя это стихотворение («Пой же, пой. На проклятой гитаре…») в письме к Ромену Роллану в 1926 году, связывает его с Айседорой Дункан. Других свидетельств о том, что стихотворение посвящено именно Дункан, я не встречал. Есенин прочел «Москву кабацкую», — за давностью времени я не могу, конечно, утверждать, что были прочитаны все стихи цикла, впоследствии даже утерявшего свое название, и тем более — в каком порядке он их читал. Теперь мы знаем, что в этот цикл входили стихи, не имеющие никакого отношения к Дункан, но нам с Юрой казалось, что весь вечер посвящен этой талантливой, наивной, немолодой по сравнению с Есениным женщине. Мы думали, что нам пришлось услышать первые слова, сказанные после разрыва, — Есенин заехал в Берлин по дороге в Москву, оставив Дункан за границей Ощущение неловкости, как будто я оказался случайным свидетелем чужой семейной драмы, не покидало меня. То. что я сидел близко к эстраде, на которой метался Есенин, усиливало впечатление моей неуместности, а фигура Кусикова, карикатурно подражавшая есенинским жестам, казалась чужеродной и оскорбительной. Мне чудилось, что Есенин бежит в гору, к невидимой и несуществующей вершине, влача за собой неотвязную тень. Уже не хватает дыханья, сердце стучит, отдаваясь нестерпимою болью в висках, на лбу выступает пот, лицо искажается гримасой последнего усилия, но отчаянный и бессмысленный бег на месте продолжается наперекор воле самого бегущего. И с каждой минутой становилось яснее, что горы-то нет и бежать-то некуда, и, перебиваемые тяжелым дыханием, еле доносятся слова, захлебнувшиеся болью: