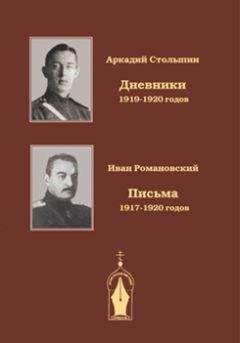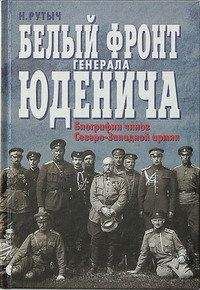Поездка за границу, Германия, Франция, Америка — как это все было не нужно Есенину! Ни в одной строчке его стихов не отразился западный мир, в письмах друзьям он пишет: «Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию». Что могла дать Айседора Есенину? Вероятно, никто из наших поэтов не был так связан с русской жизнью во всем ее национальном многообразии, грубости и нежности. Только с русской жизнью, и ни с какой другой.
19
В начале 1923 года я часто печатал стихи б газете «Дни». В то же время я все яснее чувствовал, что без России жить не могу. Все четче проступало деление на советских и эмигрантских писателей, и росло убеждение, что заграница — не для меня. Когда Маяковский снова приехал в Берлин, он уже не выступал в «Доме искусств»: для его вечера сняли зал не в Шарлоттенбурге, русской части Берлина, а где-то на Лейпцигштрассе, за Потсдамским вокзалом, в «нейтральной зоне». Собравшаяся публика встретила его довольно враждебно. Во время перерыва посыпались записки, в которых его упорно спрашивали все о той же желтой кофте: почему он сменил кофту на пиджак? Маяковский ответил:
— Вы что хотите сказать, что я на революции заработал пиджак? Неужели вы не понимаете, что теперь время не то, или вы до сих пор этого не заметили?
И, помолчав, сказал:
— Я вам прочту рассказ, чтобы вы знали, как теперь пишут в Советском Союзе. Рассказ не мой — Бабеля.
Маяковский прочел «Соль» — один из лучших рассказов И. Э. Бабеля, посвященных гражданской войне, в котором на нескольких страничках отразился размах огромной революции. Сила рассказа и сила чтения Маяковского были таковы, что аплодисменты заглушили редкие возгласы негодования.
Когда я осенью 1923 года ушел из «Дней» и начал печататься в «Накануне», Алексей Толстой уже не принимал почти никакого участия в жизни этой газеты. «Литературное приложение», в котором печатались писатели и поэты, жившие в России, редактировал Роман Гуль. Гуль отнесся ко мне благожелательно, зачислил в «городские поэты» и печатал охотно — и стихи, и рецензии. Я начал сотрудничать в «Накануне» не потому, что идеология сменовеховства, выросшая из нэпа, была мне близка, а оттого, что это была единственная возможность занять определенную просоветскую позицию. Вслед за Юрой Венусом я подал в берлинское консульство прошение о восстановлении меня в советском гражданстве. Мне не исполнилось еще двадцати одного года, моя вина перед Советской Россией сводилась к злополучной кавказской эпопее, о которой я рассказал в «Истории одного путешествия», и я был уверен, что не получу отказа.
Первое стихотворение, напечатанное в «Накануне», было совсем не политическим:
Над морем мутная, тусклая мгла.
Рыжий парус рвет облака.
Черную ночь надо мною свела
Чья-то чужая рука.
Удар за ударом в смоленый борт.
Волна за волной — взмет, взлет.
За высокой кормой большой багор
По воде с налету бьет.
За бугшритом ночь черна.
Пенится пенный берег.
Ни одна звезда не видна,
Ни одна сквозь мокрый снег.
Мне навстречу холодный норд-ост
Бросает седые гребни.
Я, пьяный от ветра матрос,
Проглядел маяков огни.
Теперь, когда я перечитываю это стихотворение, меня смущает и багор, зачем-то бьющий по воде, и «гребни» вместо «гребни», и тавтология «пенится пенный берег», но когда стихотворение было напечатано, на эти мелочи никто не обратил внимания, зато в «Руле», издававшемся В. И. Гессеном, появилась заметка о том, что сын Леонида Андреева, написавшего «SOS», сменил вехи и предал белую идею и что он сам «пьяный от ветра матрос», который «проглядел маяков огни». Указание на то, что я сын Леонида Андреева и, следовательно, как таковой не имею права думать иначе, чем думал отец в 1919 году, я принял как личное оскорбление и послал Гессену… вызов на дуэль, в котором, принимая во внимание почтенный возраст редактора, соглашался «в любом месте и в любое время» встретиться с одним из его сыновей. С моей стороны это было, конечно, чистым мальчишеством, — на мое письмо никто не ответил, но слух о нем немедленно распространился по «русскому Берлину». Для меня вызов на дуэль Гессена был как бы распиской в том, что я ушел из эмиграции. А недели через две в «Накануне» было напечатано мое политическое стихотворение:
Весь мир, как лист бумаги, наискось.
Это имя огромное — Ленин — прожгло…
Я знал, что мое сотрудничество в «Накануне» вызовет протесты среди стипендиатов профессора Уиттимора, и уже подумывал о том, как я буду жить в том случае, если меня лишат стипендии. Однако произошло совсем неожиданное: Уиттимор, проезжая через Берлин в Константинополь, где он продолжал работать над реставрацией фресок в Айя-Софии, вызвал меня к себе в гостиницу «Адлон», угостил превосходным обедом и сказал, что я поступил правильно: если русские студенты учатся за границей, то вовсе не для того, чтобы они, получив диплом, оставались вне России. Они приобретают знания для своей страны, и в своей стране они должны их применить. Уиттимор даже обещал мне помочь с изданием моей первой книжки стихов.
Было созвано общее собрание стипендиатов, на котором Уиттимор поздравил меня с тем, что я первый предпринял шаги к возвращению в Россию и сделал то, что, по его мнению, следовало бы сделать и другим стипендиатам. Никто из моих коллег, конечно, не последовал совету Уиттимора, но меня оставили в покое и даже начали побаиваться, считая, что я нахожусь на особом счету и бог его ведает какие еще странные идеи могу внушить американскому византологу.
К началу учебного года (1923–1924) в Берлин приехал Володя Сосинский. Он с золотой медалью окончил гимназию в городе Шумене в Болгарии, и медаль помогла ему — его сразу зачислили уиттиморовским стипендиатом «второго призыва».
Володя приехал в каком-то совершенно умопомрачительном пиджаке редчайшего фиолетового цвета, причем было непонятно, как он доехал до Берлина, не потеряв рукавов, пристегнутых английскими булавками. Но если пиджак нового жильца произвел неблагоприятное впечатление на фрау Фалькенштейн, то ее утешил вес чемодана, который мы с Володей еле втащили на пятый этаж дома на Шютценштраосе, — она не знала, что чемодан набит письмами, записными книжками, всевозможными литературными выписками и черновиками критических статей. Если принять во внимание, что Володя своим изумительным, каллиграфическим почерком умещал на одной странице целую повесть, то количество рукописного материала не поддавалось никакому учету.