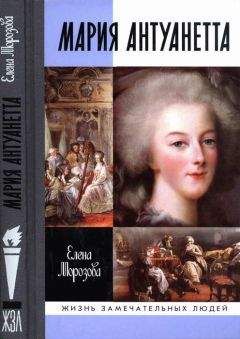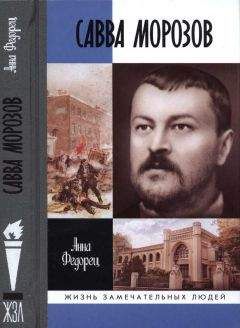В ночь на 3 августа узниц Тампля разбудили и зачитали им декрет Конвента, согласно которому по требованию прокурора Коммуны королеву переводили в Консьержери, где ее ждал суд. Как писала Мадам Руаяль, королева с невозмутимым видом выслушала комиссаров и быстро собрала свой нехитрый скарб. Одеваться ей пришлось под бдительным оком сторожей и комиссаров Коммуны. Когда она оделась, ее обыскали, забрали все мелкие вещицы, оставив только носовой платок и флакон с нюхательной солью. Прощаясь с дочерью, Мария Антуанетта велела ей слушаться тетку как вторую мать. Обнимая Елизавету, она поручила ей детей. Потом, резко повернувшись, быстро зашагала к двери. Выходя из комнаты, она, забывшись, ударилась головой о притолку, а на вопрос сторожа, не больно ли ей, ответила: «Мне уже ничто не может причинить боль».
Консьержери разительно отличалась от Тампля. В Тампле, кроме королевской семьи, иных узников не было; Консьержери наводнял самый разный люд, оттуда уводили на допросы и увозили на площадь Республики очередных жертв гильотины, по коридорам сновали писцы и канцеляристы, бродили посетители, словом, стоял постоянный гомон. Для королевы наспех подготовили камеру (бывшее помещение заседаний совета), состоявшую из двух небольших комнат, в одной из которых поместили двух караульных. Жена тюремщика мадам Ришар, предупрежденная о прибытии королевы, с помощью молоденькой служанки Розали Ламорльер сумела раздобыть складную кровать и новое постельное белье; Розали отдала свою подушку с кружевами, и обе женщины ужасно переживали, что королева окажется в совершенно неподходящих для нее условиях. Караульные оказались вполне добродушными, но, конечно, их постоянное присутствие удручало королеву. Во всех камерах старинного, расположенного на берегу реки тюремного замка было сыро. Заполняя свои дни, королева читала все, что приносила ей сострадательная мадам Ришар. Особенно королеве нравилось читать о путешествиях, и она читала так долго, как позволял сочившийся в окна свет. От долгого чтения при плохом освещении у нее краснели глаза, ухудшилось зрение. Здоровье ее также оставляло желать лучшего; особенно мучили ее частые и обильные кровотечения, справляться с которыми при практическом отсутствии гигиенических принадлежностей (самых обыкновенных тряпок) было крайне сложно. Как и прежде, вставала она около семи, потом, насколько позволяли обстоятельства, приводила себя в порядок. У нее сохранились пудреница с пуховкой и баночка с помадой, и Розали принесла ей коробку, чтобы она могла сложить в нее свои вещицы. Платьев у Марии Антуанетты осталось всего два — черное и белое. Она научилась ловко причесывать волосы, слегка их припудривая. Ей запретили иметь иголки, так что заниматься любимым рукоделием она не могла. Тогда она сплела шнурок из толстых ниток, надерганных из старого гобелена, висевшего на стене для защиты от сырости. Еда, которую приносила ей мадам Ришар, была свежа и вполне съедобна: на обед — суп, вареное мясо, тушеные овощи, жаркое, десерт; на ужин — жаркое или котлеты и то, что осталось от обеда. Пишут, когда Розали, покупая на рынке продукты, говорила, что отбирает их для королевы, торговки предлагали ей самое лучшее: они не держали зла на королеву и очень ей сочувствовали. Мария Антуанетта никогда не была набожной, но после смерти мужа стала проводить много времени в благочестивых размышлениях. Она не расставалась с висевшим у нее на шее медальоном, где сохранились миниатюрный портрет сына и локон его волос. Розали вспоминала: о чем бы ни говорили с королевой, та всегда отвечала ровно, не выказывая ни волнения, ни горечи. Но о детях она не могла говорить спокойно и тотчас начинала плакать. Когда однажды мадам Ришар привела с собой сына, который был примерно одного возраста с Луи Шарлем, королева разрыдалась и принялась осыпать его поцелуями. К королеве часто приходили посетители: и супруги Ришар, и караульные (скорее всего, не бесплатно) пускали сочувствующих и любопытных посмотреть на необычную узницу. Говорят, ее дважды тайно посетил неприсягнувший священник аббат Шарль Маньен, он исповедал королеву и даже отслужил мессу. Но, вероятнее всего, королеве удалось получить духовное утешение от кого-то из содержавшихся в тюрьме неприсягнувших священников.
Процесс откладывался — возможно, в надежде, что Франц II решит спасти родственницу, предложив французам приемлемый вариант обмена или выкупа. Ферзен, не находивший себе места от беспокойства, порывался собрать отряд, вихрем домчаться до Парижа, ворваться в Консьержери и, словно рыцарь на белом коне, умчать королеву… Воспользовавшись возможностью посещать узницу, новые смельчаки пытались устроить ей побег. Наиболее известен — благодаря А. Дюма и его роману «Шевалье де Мэзон-Руж» — так называемый «заговор гвоздики». Однажды в камеру к Марии Антуанетте в сопровождении администратора Мишони (который, похоже, неплохо зарабатывал на знатных узниках) пришел некий Александр де Ружвиль; королева узнала его, ибо когда-то он служил в личной гвардии графа Прованского, но виду не подала. Низко поклонившись, Ружвиль как бы случайно обронил из петлицы гвоздику, в которой была спрятана записка. В ней говорилось, что друзья хотят устроить королеве побег. Полагают, что Ружвиль приходил к королеве еще раз (или несколько), но уже без Мишони, чтобы в деталях изложить ей план побега и вручить деньги караульному Жильберу, якобы согласившемуся помогать заговорщикам. Известно, что, когда Мария Антуанетта написала Ружвилю ответ, а точнее, за неимением письменных принадлежностей наколола его булавкой, Жильбер, якобы вызвавшийся помогать королеве (в условленный день и час он обязался вывести ее из Консьержери), взял у нее клочок бумаги и, передав его привратнице Ришар, написал донос «куда следует». Там отреагировали мгновенно. Супругов Ришар арестовали (от гильотины их спасло только то, что записка так и осталась лежать в кармане мадам Ришар, забывшей передать ее на волю), на их место взяли супругов Небо, грубых и без малейшего намека на утонченность. Марию Антуанетту перевели в другую камеру, ту, где ей предстояло провести последние 35 дней своей жизни. Бывшее помещение аптеки, эта камера также не отличалась особым удобством. В ней было два окна, но одно до половины забито листом железа, а другое забрано такой частой решеткой, что через него с трудом проходил свет. Угол отгородили ширмой; там, как и прежде, разместили двух караульных гвардейцев, приказав им бдительно следить за узницей днем и ночью.
«Заговор гвоздики» привлек внимание общественного обвинителя Фукье-Тенвиля, давно и безуспешно пытавшегося найти хоть какую-нибудь зацепку, на основании которой можно было бы построить обвинение против королевы. (Письма королевы, в которых она, стремясь спасти семью, призывала иностранные войска вступить во Францию, обнаружат еще не скоро.)