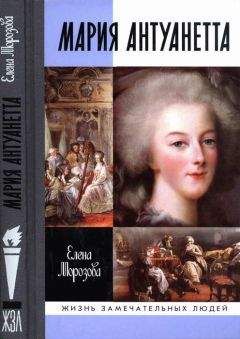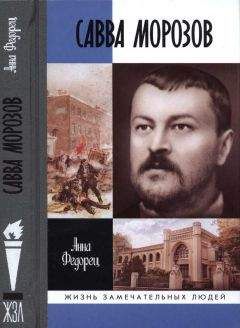«Заговор гвоздики» привлек внимание общественного обвинителя Фукье-Тенвиля, давно и безуспешно пытавшегося найти хоть какую-нибудь зацепку, на основании которой можно было бы построить обвинение против королевы. (Письма королевы, в которых она, стремясь спасти семью, призывала иностранные войска вступить во Францию, обнаружат еще не скоро.)
3 сентября в четыре часа пополудни в камеру к Марии Антуанетте пришли представители Комитета общественного спасения и отвели ее на допрос по «заговору гвоздики». Королева все отрицала, утверждая, что к ней обычно заходит много людей, так что она их не запоминает, а цветы уже стояли у нее в камере. Сменив тактику, представитель неожиданно спросил, в курсе ли она последних событий и политического положения.
— Вам известно, что в Тампле мы были отрезаны от мира, равно как и здесь, — отвечала королева.
— Неужели у вас не сохранилось тайных связей на воле?
— Нет, ибо для этого следует обладать властью.
— Вас интересуют победы наших врагов?
— Меня интересуют победы, одержанные народом, к которому принадлежит мой сын; для матери дети главнее любых иных родственников.
— Какова национальность вашего сына?
— Он француз. Почему вы сомневаетесь?
— Так как сын ваш стал простым гражданином, следовательно, вы отказались от привилегий, дарованных суетным королевским титулом?
— Мы думаем только о благе Франции.
— Значит, вас устраивает, что больше нет ни короля, ни королевской власти?
— Лишь бы Франция была счастлива, нам больше ничего не надо.
— Значит, вы хотите, чтобы народ избавился от угнетателей и всех тех членов вашей семьи, что творят произвол?
— Я отвечаю только за себя и за сына и не стану ручаться за остальных.
— Значит, вы не разделяли убеждений вашего мужа?
— Я всегда исполняла свой долг.
— Однако вы не можете скрыть, что при дворе были люди, интересы которых противоречили интересам народа?
— Я всегда лишь исполняла свои обязанности. И в то время, и сейчас.
И так на протяжении пятнадцати часов тридцати минут. В половине восьмого утра измученная королева ответила на последний вопрос:
— Двадцатью пятью миллионами голосов Франция провозгласила себя республикой. Готовы ли вы и ваш сын жить как простые граждане в этой республике, хотите ли вы, чтобы республика победила своих врагов?
— Я уже отвечала на эти вопросы. Больше мне нечего сказать.
Обессиленная бесконечным допросом, на следующий день Мария Антуанетта уже не отрицала, что получила записку от приходившего к ней человека и булавкой наколола ответ, сообщая, что находится под постоянным наблюдением; под натиском вопросов она призналась, что видела этого человека раньше, а именно 20 июня 1792 года в Тюильри.
— Почему вы боялись, что его узнают?
— Потому, что любой, кто приходит сюда ко мне, рискует оказаться под подозрением.
«В завершение допроса вдова Капет заявила, что сначала не могла сказать правду, потому что не хотела компрометировать этого человека и предпочла навредить самой себе; но, увидев, что все раскрыто, она без колебаний рассказала все, что знала», — гласил протокол.
Неумолимо надвигалась осень. Мария Антуанетта медленно угасала в сырой полутемной камере. Но революционеры не могли допустить, чтобы королева скончалась естественной смертью: народ требовал головы вдовы Капет. Обстановка в стране и на фронтах накалялась. 17 сентября приняли «закон о подозрительных», согласно которому любого можно было обвинить в предательстве интересов республики. Перерыв все архивы, Фукье-Тенвиль не смог найти ни единого документа, уличавшего королеву хоть в каком-нибудь преступлении. Впрочем, «Папаша Дюшен» на своих страницах давно убеждал санкюлотов в бессмысленности поисков повода для осуждения «австрийской тигрицы», «ибо ежели воздавать по справедливости, то ее надобно изрубить на мелкие кусочки, как мясо на паштет». Жаждавшие смерти «Австриячки» санкюлоты распевали на мотив «Марсельезы»:
Так иди же ты к черту, злодейка,
По делам тебе смерть и позор.
Искупить своей кровью сумей-ка
Королевский кровавый террор.
Ты, наветы используя ловко,
Правосудье вводила в обман.
Но в геенне смердящий тиран!
Так ступай же вслед мужу, чертовка!
Врагу отомстим,
Равенству верны;
И смерть, смерть сулим
Душителям страны.
Далее следует позорнейшая страница обвинения, придуманная, по всей видимости, Эбером и подхваченная должностными лицами Коммуны. 30 сентября Эбер получил записку от сапожника Симона, надзиравшего за заключенным в Тампль Луи Капетом; в этой записке Симон приглашал его срочно к нему явиться, и Эбер исполнил просьбу. А 6 октября в Тампль «отправилась комиссия в составе мэра, прокурора Коммуны, двух членов Генерального совета и полицейского надзирателя, чтобы допросить сына Людовика XVI восьми лет от роду». Вот выдержка из протокола: Луи Капет «заявил, что Симон и его жена, приставленные Коммуной надзирать за ним, не раз заставали его в кровати за занятием, способным повредить его здоровью; он признался, что этой вредной привычке научили его мать и тетя, что они часто забавлялись, когда он делал это перед ними; также они часто укладывали его между собой. Как дал нам понять ребенок, однажды мать велела ему приблизиться к ней и в результате произошло соитие, отчего у него распухло яичко, и, как сказала гражданка Симон, из-за этого он теперь носит бандаж. А его мать велела никому ничего не рассказывать; а еще это действие повторялось с тех пор несколько раз». Под протоколом стояла корявая подпись: Луи Шарль Капет. Когда мальчик был с матерью, она под руководством доктора Брюнье лечила мазью его опухшее яичко и заставляла носить бандаж против паховой грыжи. Но теперь лечением мальчика никто не занимался. Три месяца жизни в семье грубого сапожника сильно повлияли на неустойчивую психику ребенка. Неспокойный от природы, упрямый, но любящий мальчик, не знавший ни в чем нужды, внезапно оказался в совершенно чуждом ему жестоком мире и вынужден был к нему приспосабливаться. Все эти три месяца с ним никто не разговаривал, на него только покрикивали и учили произносить слова, значение которых он не понимал. Возможно, поэтому, когда важные персоны завели с ним обстоятельный разговор, когда с интересом его слушали, он был готов сказать все что угодно, придумать все, что хотели услышать от него взрослые. А те своими коварными вопросами подводили его к чудовищной, противоестественной лжи.
На следующий день Луи Шарля попросили повторить свой рассказ в присутствии сестры. Та стала стыдить брата, но мальчик, ощущая «мужскую» поддержку важных взрослых, из чувства противоречия, столь свойственного детям в спорах со старшими сестрами, упорно стоял на своем. Ведь он снова был в центре внимания! Тогда Мария Тереза заявила, что брат ее попросту сошел с ума. Затем допросили Елизавету; увидев предъявленные ей показания ребенка, она была настолько поражена цинизмом дознавателей, что гневно оттолкнув от себя протокол, умолкла и более не сказала ни слова. Но, собственно, от нее слов и не требовалось. Ни ее, ни Марию Терезу, никого, кто мог бы свидетельствовать в пользу королевы, в суд приглашать не собирались. Не намеревались вести туда и Луи Шарля, опасаясь, что, увидев мать, мальчик в лучшем случае будет плакать, а в худшем — все опровергнет. Истина тоже была не нужна.