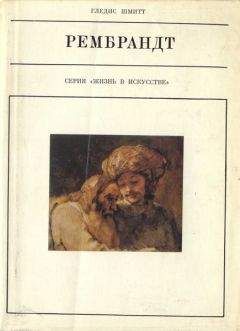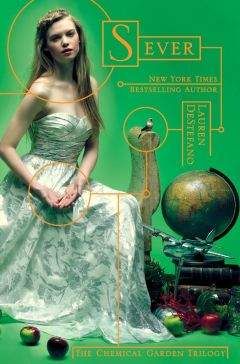— Мы гордимся тобою, Адриан, — снова заговорила мать. — Мы гордимся всеми нашими сыновьями. Теперь, когда ты кое-чего достиг, а Рембрандт делает такие успехи у господина ван Сваненбюрха…
— Сдается мне, он другого мнения насчет своих успехов у господина ван Сваненбюрха, — перебил ее Хармен Герритс.
— Что ты хочешь этим сказать, отец?
Голос Рембрандта звучал еще холоднее, чем минуту назад, когда он попросил масла, и неожиданно Лисбет вспомнила, что после отъезда Яна Ливенса ее отец и младший брат, прежде всегда жившие в полном, хотя и молчаливом согласии, старались поменьше оставаться вдвоем в одной комнате. Девушка отпила глоток пива, и сердце ее заколотилось. Последние три Дня, перед ужином и после него, брат спешил поскорее уйти к себе в мансарду, хотя раньше подолгу засиживался с отцом в задней комнате, рисуя или гравируя. Зачем он уходит? Чтобы на свободе предаваться неосуществимой, но все еще не забытой мечте?
— Я хочу сказать именно то, что говорю. Вчера вечером ты был в дурном расположении духа, сегодня, с утра, оно у тебя еще хуже. Что с тобой? Твой учитель раззадорил тебя рассказами об Италии?
Рембрандт поглядел на отца поверх нетронутой кружки с пивом и тарелки с наполовину съеденными сухарями.
— По-моему, еще в тот день, когда господин ван Сваненбюрх оказал нам великую честь своим посещением, я совершенно ясно дал понять, что меня в Италию не вытащишь.
— Насколько мне известно, никто и не собирается тащить тебя в Италию или еще куда-нибудь.
— Полно, Хармен, — вступилась мать. — Ну зачем ты его дразнишь? Ты же видишь, он сам не свой, с тех пор как расстался с другом. Оставь ты его в покое.
— Зря тревожишься, Нелтье: его и так не беспокоят. Пусть себе живет отшельником на мансарде — никто в его драгоценном обществе не нуждается. Но только очень печально, когда человек не знает, что творится в душе у его собственных детей. Последние три дня Рембрандт ведет себя так, словно я свершил против него смертный грех, хотя, видит бог, ничего я ему не сделал.
— Ты мне действительно ничего не сделал, отец.
— Так почему же ты ходишь как потерянный?
— Потому что у меня на душе невесело.
— Из-за чего? На что ты дуешься?
— Ни на что.
— Это не ответ. Если тебя не тянет в Италию, значит, у тебя на уме что-то другое, и, как я догадываюсь, это другое — мастерская Питера Ластмана в Амстердаме.
«Экая жалость, что у брата такая нежная кожа, — подумала Лисбет. — Это сразу его выдает».
Скулы Рембрандта, резко контрастируя с бледностью щек, покрылись пятнами румянца, скорее оранжевыми, чем красными.
— Коль скоро ты задаешь мне прямой вопрос, я прямо и отвечаю — да, — сказал он, и признание это внушило бы к себе уважение своим сдержанным благородством, если бы не было излишним — все и без того прочли ответ на его лице. Все, кроме матери, которая в полном недоумении смотрела на него, приоткрыв морщинистый рот.
— Но мне всегда казалось, что ты доволен господином ван Сваненбюрхом, — начала она.
— У господина ван Сваненбюрха есть свои хорошие стороны, мать.
— Неужели? — усмехнулся отец. — Рад слышать. Дворянин, сын бургомистра, художник, чьи работы достойны украшать ратушу… Приятно слышать, что ты замолвил за него словечко. Он несомненно нуждается в похвалах семнадцатилетнего молокососа!
— Послушай, отец, — опять осмелилась поднять голос Лисбет, молчавшая с тех самых пор, как она возразила отцу насчет тесноты в мансарде Рембрандта. — Господин ван Сваненбюрх — хороший художник, но это еще не значит, что Питер Ластман не может быть лучше его.
Часть отцовского гнева, вызванного ее братом, обрушилась теперь на девушку.
— В самом деле? — осведомился мельник. — А кто тебе это сказал?
— Ян Ливенс считает, что Ластман лучше ван Сваненбюрха.
— Ян Ливенс! А кто такой Ян Ливенс? Сын обойщика, уехавший в Амстердам и научившийся там говорить высокие слова да размахивать руками. Еще один молокосос, к тому же дурак, а ты повторяешь его слова, словно он пророк.
— Если мне позволено будет сказать, хоть это и не мое дело, — поерзав на стуле и откашлявшись, вмешался Адриан, — то я считаю праздным спор о том, кто из них двоих лучший художник. Вопрос в другом — сколько ты можешь истратить на это денег, отец. — Яркий влажный взгляд Адриана остановился на кошеле, лежавшем на тарелке Хармена. — На мельнице и в доме нужно сделать кое-какие починки, Лисбет потребуется приданое, хотя и не такое большое, какое ей дали бы, не будь… — Адриан взглянул на Геррита и снова отвел глаза, — не будь у нас всяких других расходов. Следует хорошенько подумать, разумно ли выкладывать деньги на то, на что и так уже истрачено немало.
Рембрандт, покраснев до висков, пристально глядел через стол на брата, и Лисбет чувствовала, что внезапный порыв его гнева вызван не столько замаскированным намеком, содержавшимся в словах Адриана, сколько взглядом, которым тот показал, что ему и только ему принадлежит кошель, лежащий сейчас на отцовской тарелке.
— Скажи уж прямо, Адриан, — произнес юноша голосом, дрожавшим от подавленной ярости, — что ты никогда не забудешь мне университет, куда я имел возможность попасть, а ты не попал.
— Предположим даже, что не забудет, — подхватил мельник. — Я бы его за это не винил: как ни верти, тебе перепало больше, чем ему. Тебе дали деньги на университет, и ничего у тебя не получилось. Тебе дали деньги на ученье у господина ван Сваненбюрха, а теперь, выходит, что и это было ни к чему.
— Не понимаю, как ты можешь так говорить, Хармен, — плачущим голосом вмешалась мать. — Господин ван Сваненбюрх сам подтвердит тебе, что у него еще не было такого ученика. А что до этой истории с университетом, так я впервые слышу, чтобы у нас в доме поднимали столько шуму из-за напрасно потраченных денег. Видит бог, у кого не бывает ошибок?
Но Лисбет понимала: мать — плохая союзница. Не успела она договорить, как у нее уже задрожали губы: она сообразила, что каждое слово, сказанное ею в защиту своего любимца, лишь ускоряет разлуку с ним.
— Здесь уже не одна ошибка, а две, — возразил отец. — Но дело не в этом. Адриан прав: весь вопрос в деньгах. В починке мельницы, в приданом Лисбет…
— И еще в пожизненной ренте, которую ты обеспечил мне, и в расходах на врача, и в том, что я никогда уже ничего не заработаю, — перебил Геррит. — Все вы, сидящие здесь, думаете это. Так почему же вы не хотите сказать это вслух?
— Ошибаешься, Геррит. Я этого не думаю, да и остальные тоже. Богом клянусь, сын, если бы даже твое лечение стоило в десять раз дороже, я и то никогда бы денег не пожалел. Ты столько работал на мельнице до того…