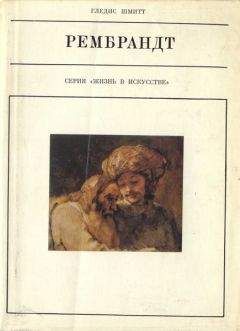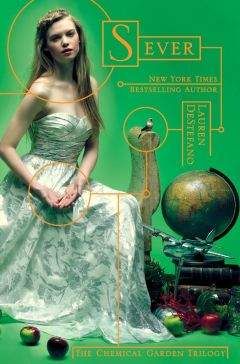Рембрандт наугад прокладывал себе дорогу через репейник, крапиву, последний осенний чертополох, отважно перезимовавший в гуще камыша. Не все ли равно, где идти? Теперь ему больше не нужно трястись над своей драгоценной правой рукой. Остановившись на полпути среди смешанных зарослей, которые подымались ему по пояс, он расстегнул ворот куртки и отер пот с лица и шеи. Работа — вот доказательство, которое он предъявит: «узнают лозу по плодам ее». Прикрыв глаза рукой, чтобы защитить их от яркого блеска утренних вод, Рембрандт представил себе свои лучшие работы. Вот Иуда, прилаживающий петлю: глаза у него выкачены, волосы вздыбились от страха… Нет, рисунок фальшив. Стоит ему представить себе эту сцену, как к горлу уже подступает тошнота. Может быть, маленькая картинка маслом — кисть винограда на деревянной тарелке? Прозрачные, напитанные хмельной влагой шарики, такие подлинные, что, по словам Фьоретты, их хочется съесть… Но написать виноградную гроздь способен даже Хуфен: изображая виноград, дыни, битую дичь и прочее, славы не достигнешь. Гравюра, изображающая святого Иоанна на Патмосе в тот миг, когда он встает со своей скалы навстречу апокалиптическому ангелу? Нет, слишком кричаще, слишком напыщенно. Неужели ему никогда не удастся что-нибудь по-настоящему искреннее, идущее от смиренного разума и сокрушенного сердца? Святой Варфоломей? Да, в нем есть подлинная боль, и никто, кроме него, Рембрандта, не сумел бы написать капли пота так убедительно, что они взбухают, когда смотришь на них; но и капли, и потертый ворс бархата — все это лишь еще один дешевый трюк. Страдание привнес в картину Геррит, оно принадлежит ему, а Рембрандту — только пот и бархат. Презренное умение обманывать глаз — вот и все, чем он может, гордиться.
Юношу переполнило такое отвращение к себе, что он даже ни заметил, как преодолел оставшуюся баррикаду зарослей. По другую сторону камышей, белея в раннем утреннем свете, лежали дюны, и монотонность их бледных пологих изгибов лишь изредка разнообразилась взметнувшимся вверх стеблем какого-нибудь чахлого, никому не нужного растения, гниющей медузой или пустой раковиной. Здесь, где до берега оставалось не больше полмили, уже чувствовался крепкий, раздражающий ноздри запах моря. Чтобы не подходить слишком близко к воде, Рембрандт повернул направо и медленно побрел в поисках бугорка, где можно было бы посидеть, не видя у своих ног маслянистого следа змеи или человеческого скелета. Наконец нашел, опустился на оседающий песок и опять задумался.
Вдали, над ровным горизонтом, редела завеса тумана, сквозь которую там и сям уже виднелась пенистая линия наступавшего на сушу прилива. Юноша видел, как постепенно отплывает флотилия рыбачьих баркасов и паруса их ярко желтеют в лучах встающего солнца. А в каких-нибудь двухстах футах от Рембрандта, между бугорком и водой, брела темная фигура, обрамленная развевающимися лохмотьями, — это нищий подбирал то, что оставляет беднякам прилив: выброшенных на берег угрей и моллюсков.
За последние несколько лет Рембрандт нарисовал добрую дюжину таких нищих. Они стучались в дома, толкались на ярмарках, бродили по взморью, и великий гравер Калло на десятках своих листов запечатлевал их фантастические лохмотья и живописную нищету. Юноша наклонился вперед и взглянул вниз с дюны, чтобы получше рассмотреть нищего и навсегда вобрать в себя некую покорность и напряженную безысходность, угадывавшиеся в линиях его спины и головы. Никогда еще он не чувствовал так остро, что отрешается от самого себя и вживается в самое существо модели. Одиночество, сознание своей отверженности, неотвратимая угроза надвигающейся смерти — он понимал все это, он осязаемо ощущал, что могут эти силы сделать с плотью, мышцами, костями человека. Ему самому хотелось есть, и это желание помогало ему постичь великую муку голода; его собственное сердце, ослабевшее от сознания заброшенности и горьких размышлений, забилось в унисон с истощенным, не знающим радости сердцем нищего.
Рембрандт встал, сделал шагов сто по направлению к нему, отыскал другой бугорок и опять сел, не обращая внимания на то, что рядом валялись сельдь и морская звезда, уже раздутые гниением. Отсюда, в свете разгоравшегося дня, он различал все так необходимые ему подробности — впалые щеки, припухлый живот, особенно заметный на фоне изможденного худобой тела, локоть, высунувшийся из продранного рукава. Карандаш и бумага очутились у него в руках быстрее, чем он заметил, что вынимает их из кармана; линия ложилась за линией, уверенно, неторопливо — собственные страдания всегда пишешь скромно, без показного блеска, но с увлечением и нежностью. Трепещущие на ветру лохмотья, обрывки ткани, которыми нищий обмотал себе ноги взамен чулок, старый мешок, наброшенный им на голову, чтобы предохранить себя от утреннего холодка и простуды, — все эти предметы, которым раньше он придал бы на бумаге дразнящие фантастические контуры, он писал сейчас скупо и точно, ни на миг не давая воли воображению. И только глаза, которых он, даже напрягая зрение, не мог разглядеть на таком расстоянии, получились у сборщика раковин такими же, как у него самого, — холодными, но таящими в себе боль.
Набросок был удачен, более чем удачен. Его стоит приберечь — он еще найдет ему применение, еще преобразит этого бедняка, в немом отчаянии бредущего по песку, во множество других таких же несчастных — в калек и слепцов, которые ловят всеисцеляющую десницу Христа, в Лазаря, который собирает крошки под столом богача, в блудного сына, который добывает себе пропитание вместе со свиньями. Блудный сын! В этой притче, что бы там ни говорил господин ван Сваненбюрх, хватит сюжетов на добрую дюжину картин. Когда-нибудь, с божьей помощью, он напишет целую серию их: блудный сын, с ликованием вступающий на отцовский порог туманным утром; блудный сын в кругу блудниц, одной из которых можно придать облик Фьоретты; блудный сын — но почему он плачет, почему щеки его омыты внезапными, обильными, облегчающими слезами? — блудный сын, падающий на грудь отца, чьи руки смыкаются вокруг него в тесном всепрощающем объятии.
Час был еще ранний: оттенок желтизны на далеких парусах подсказывал Рембрандту, что с восхода солнца прошло не больше трех часов. Можно, конечно, пойти и в мастерскую — опоздал он не на много, и ван Сваненбюрх только слегка попеняет ему, но юноше была нестерпима даже мысль о том, что он вновь очутится в этих ставших ему ненавистными стенах. К тому же он голоден, а в Зейтбруке его напоят пахтаньем, накормят свежими оладьями. Распевая во весь голос старинный хорал, он торопливо зашагал через дюны к дороге, которая вела в деревню, где жили родственники его матери. Он шел, не сводя глаз с блестящих крыш Лейдена, с обагренных солнцем городских стен, со сверкающих крыльев мельницы и не глядя на то, что трещит сейчас у него под ногами, — на выброшенные морем раковины и человеческие кости.