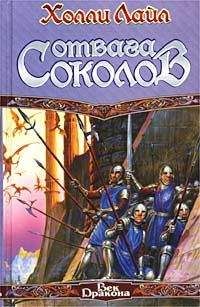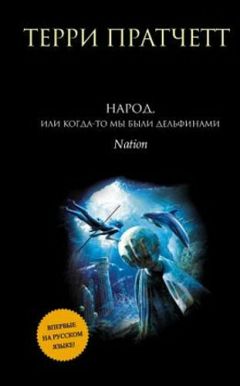Громко стукнула входная дверь.
- Вечеряли? Накрывайте на стол, - на ходу бросил Игнат.
Сестры засуетились.
На селе уже ощущалась нужда в керосине, лампу зажигали редко, поэтому спать улеглись рано. Наталья лежала с открытыми глазами, ворочалась, а сон так и не мог одолеть ее до третьих петухов. В голову, разболевшуюся и ставшую тяжелой, лезли безутешные, неспокойные думы. И каждую ночь снились сны. Днем она не могла вспомнить их, но тревожное ощущение не проходило. Порой ей казалось, что минувшей ночью она видела то Алексея, скорбного, сурового, то улыбающегося, довольного Петра.
Наталья только сейчас подумала, что, сколько ни было у нее встреч с Петром и как ни разделяли они чувства, доверчиво отдаваясь друг другу, они никогда с определенной ясностью не говорили, как устроят свою жизнь. Странно - ни она, ни он в таком объяснении не видели необходимости.
Любовь ее к Завьялову уже не была в той поре, когда требовалось проверить, насколько прочны чувства, связывающие их; эта любовь захватила все ее существо, стала нераздельной частью ее жизни. И теперь чем сильнее чувствовала свою привязанность к Петру, тем серьезнее задумывалась над тем, как сложится их совместная жизнь.
Когда были вместе, все понималось легко, просто, а после отъезда Петра неопределенность их отношений стала пугать, сжимать сердце ноющей болью. Она не могла и не хотела жить украдкой... Жить дальше так - значило испытывать постоянный страх перед своей совестью.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
В субботний день, вернувшись с полевого стана засветло, Наталья закрылась в тесной, пахнущей лекарствами комнате медпункта и долго, до поздней ночи писала Завьялову письмо:
"...Расставшись с тобою, думала не писать тебе никогда. Ты холостой, а я замужем. И мне казалось преступлением писать тебе, а сейчас пишу и думаю, что преступно не писать. Пишу тому человеку, которому доверилась, сознавая, что люблю его и любима им.
После твоего отъезда я хожу сама не своя и чувствую себя потерянной, какой-то растрепанной. На душе муторно: война опрокинула всю нашу жизнь. Покалечила, растоптала. Страшно поверить, но это так: в дома уже постучалось горе. Пришло извещение - Витька, сын нашего председателя Лукича (ты, конечно, не знал его, но это был очень дельный парень), погиб где-то под Слонимом. Не просыхают глаза у его матери, и не только одна она обливается слезами: все женщины на селе ходят со скорбными лицами.
Но я креплюсь. Видно, по натуре такая. Даже в беде цепляюсь за краешек радости. И сейчас вспоминаю все доброе, все хорошее, что связывало нас и давало отраду в жизни.
Петенька, родной, что со мной делается!.. Что со мной... Если бы ты знал!.. Расставаясь, все же не предполагала, что будет до такой степени мучительно.
Мне иной раз думается - лучше бы не ведала, что такое бывает на свете...
Думаю о тебе не ежечасно, нет! - каждую минуту, каждую... Я вообще не забываю о тебе, поэтому нельзя сказать, что вспоминаю часто. Все вокруг напоминает, кричит о тебе и только о тебе.
...Припоминаю нашу первую встречу - зимой, на опушке леса. Тогда ты был для меня одним из тех людей, с которыми, здороваясь, стараешься не тратить времени, не обращать внимания.
Ведь тогда я считала себя счастливой...
Алексей - хороший человек, меня любит, и мне казалось, что я его тоже люблю.
Это потому, что я не видела твоих глаз. Встретилась взглядом с тобой - страшная вещь! Ничего похожего никогда не знала. Я не смогла повернуться и уйти. Тянуло, не отрываясь, смотреть, смотреть в твои глаза... Тогда вдруг почему-то впервые захотелось быть меньше ростом, и я даже, разговаривая с тобой, поймала себя на том, что сгибаю колени. Улыбаешься? Ну что ж, улыбайся. Тем более, что я очень люблю твою улыбку...
Как же без тебя мне трудно! Ох, как трудно! И когда же я тебя увижу? Если бы ты знал, как болит душа, как тяжело ничего не знать о тебе! Порой мне чудится, что тебя уже послали на фронт.
Не хочу кривить душой: последнее время нередко вспоминаю и Алексея. Ведь он с первого дня на войне - где он и что с ним? Ты, пожалуйста, пойми это мое беспокойство правильно. Во мне он вызывает сочувствие и тревогу не как близкий и любимый (хотя и доводится мужем), но как человек, очутившийся раньше нас в беде. И не хочу его осуждать. Откровенно говоря, он хороший, честный, и если бы не разлука, не война, то, быть может, не произошло бы и этого...
Что же касается наших отношений, то они остаются неизменными. Говорят, когда такое бедствие, то не стоит писать о чувствах, о любви. Не верю! Наоборот: никогда, как мне кажется, не обостряются чувства и не переполняют так сердце, как во время горя и беды. Любовь сберегает...
И вот теперь, когда нет никакой возможности хоть на минуту тебя увидеть, вспоминаю об этих днях, и мне кажется, что их прошло больше, чем в жизни с мужем. Удивительно!
До последнего мгновения, проведенного с тобой, крепла во мне уверенность в том, что ты - единственное счастье мое. Уверенность в том, что ты для меня ни с кем не сравним.
Поняла, что нельзя было выходить замуж, не имея такого ощущения. Но откуда я знала...
Весь мой прежний жизненный опыт убеждал меня в правильности взгляда: "О счастье не говорят - его чувствуют".
Чем больше счастливая уверенность заполняла сердце, тем сильнее я злилась, вместе с уверенностью к сердцу подступало нехорошее чувство досады, обиды... Почему такое дано мне переживать не тогда, когда я была девушкой, ждала этого, долго ждала!
Однажды ты впервые сказал: "Где ты была раньше?"
Я не в силах была ответить - бесконечно горько.
Как я злилась!
Неизвестно на кого: на судьбу, на себя, на тебя...
Временами чувствовала только эту злость. Ничего больше.
Один раз ты произнес: "Теперь надо посмотреть, прочно ли это чувство, постоянно ли?"
Ничего особенного как будто и не сказал. А меня это очень обидело, очень. Не одна неделя прошла, но до сих пор не могу равнодушно вспомнить эти слова.
Мучительное и приятное занятие - вспоминать. А вспоминать есть что!
Помнишь, отдавая мне букет ландышей, ты сказал: "Осторожней". Я тогда со своим сердцем не умела обращаться, милый, а не только с ландышами. Я внушала себе: надо быть твердой, надо убедить, что не могу дать ему счастья. Потом уйти. Тогда он не будет ни подходить, ни даже смотреть на меня. Я тоже возьму себя в руки. Потом буду уважать себя за это.
Но была очень непоследовательна.
Чувствовала себя то беспредельно счастливой, то бесконечно несчастной: все ощутимее было непонятное, глухое чувство чего-то неизвестного. И я пугалась.
Пишу, а мысленно переношусь в сад.
Я не владела собой...
Разрешить тебе все...
Разрешить, не имея ничего определенного впереди; разрешить, зная, насколько тускла радость, если желание удовлетворяется сразу, едва возникнув; разрешить, зная: что легко дается, то не ценится...