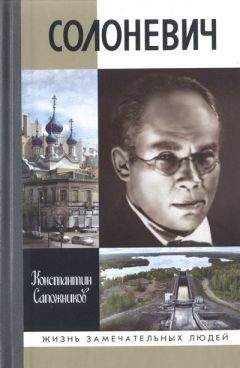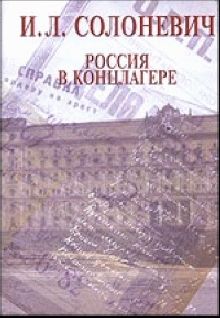— Вот, Петербург. 1917 год. Революция. Я, молодой студент, уезжаю на юг в отпуск «во все города и селение Российской Империи», как значилось в отпускном билете, а уже чувствуется, что вся страна — в лихорадке. И даже наше прощанье на вокзале проходит под аккомпанемент отдаленных выстрелов…
— Киев. 1919 год. Гражданская война. Я прорвался к брату в гости из Ростова только на несколько дней. На Кубани остался старик отец и работа на газетном и молодежном посту. И я закидываю винтовку за плечо и опять ныряю в водоворот событий.
— Маленький украинский городок Ананьев. 1921 год. Случай или чудо помогли нам найти друг друга после взрывов гражданской войны. Средний брат погиб, и мы особенно сильно чувствуем себя связанными общей судьбой. Но по телеграмме Крыма меня арестовывают за скаутскую работу и увозят под конвоем. И опять я махаю шапкой на прощанье и силюсь весело улыбнуться…
— Одесса. 1923. После ряда арестов и года тюрьмы я уезжаю в Севастополь. Пароход медленно отходит от пристани, и в толпе провожающих массивной глыбой видны плечи дяди Вани…
— Москва. 1926. Туманное утро. Чекистский автомобиль увозит меня, арестованного, на Лубянку, страшную Лубянку… У ворот дома стоит Ирина и Ваня. До свиданья!..
А, может быть, и прощайте?..
— Еще через пять месяцев. Лицо брата прильнуло к решетке Бутырской тюрьмы. Это прощанье перед Соловками… Впереди пять лет разлуки. Пять лет советской каторги…
— Двор Ленинградской тюрьмы. 1933. Мы все арестованы при второй попытке побега из СССР. Шансов на жизнь почти нет… Особенно для меня, соловчанина и беглого ссыльного… Мы молча обнимаемся. Разве нужны слова в такие тяжелые минуты?..
И теперь вот опять…
Познай самого себя, но познав… не впадай в уныние…
После бессонной ночи забрезжило северное утро. У дверей барака появляется конвой.
— Эй, Солоневич… Юрий и Иван… Выходи!..
Последний поцелуй, суровый и короткий. Крепкое рукопожатие.
Мы молчим… Не хочется, чтобы дрогнувший голос выдал волнение. И без того на сердце так тяжело… Впереди — побег, в котором шансы на успех так малы… А неудача — смерть… Увидимся ли когда-нибудь? Неужели этот поцелуй был действительно последним?.. Да, что и говорить, нам и помолчать есть о чем…
Последний взгляд, и фигура брата скрывается в дверях.
Я заворачиваю голову в одеяло, и мучительные рыдание сотрясают мое тело. Горячие слезы не облегчают, а жгут… Они так мучительны для мужской гордости и выдержки. И одна за другой они ползут и ползут по щекам, как расплавленный свинец. Зубы судорожно сжимаются в тщетном стремлении удержать их, и от этого усилия вздрагивает грудь… Неужели я сломан?..
Боже мой! Боже мой!.. Когда же конец всему этому?..
День врача в концлагере[48]
Лето 1934 года я провел в небольшом лагерном пункте в г. Лодейное Поле на реке Свирь в должности начальника санитарной части.
Там мне в течение нескольких месяцев пришлось наблюдать картины оборотной стороны лагеря. Из таких картин я составил очерк-мозаику типичного дня врача в лагере, подобрав для нее не наиболее жуткие, а просто наиболее характерные эпизоды.
Многие читатели сочтут этот очерк трагической утрировкой. Я знаю это. Уже два иностранных журнала отказались поместить его, откровенно признавшись, что они не верят в правдивость написанного. Да, конечно, этому трудно верить. Только тому, кто сам соприкасался с такой жизнью, мне не нужно доказывать, что, к сожалению, это правда. И таких «дней» в разные годы и в разных лагерях я провел не одну сотню.
Ранним утром меня будит стук в дверь. В открывшуюся щель просовывается голова санитара:
— Так что, товарищ доктор, вас в амбулаторию вызывають. Привели кого-то-сь — сами не справляются…
Через несколько минут я вышел из лазарета — низкого деревянного домика, расположенного на скалах, у излучины большой реки.
Северная ночь давно уже сменилась полным света утром, и из низкой пелены тумана были видны десятки низких деревянных бараков нашего лагерного пункта. За крышами бараков, прямо из тумана какими-то призраками вставали деревянные вышки между двумя рядами проволочных заборов — это наблюдательные сторожевые посты с установленными там пулеметами. Вдали, на горке была едва видна полуразрушенная колокольня давно закрытой городской церкви…
По бревенчатой мостовой, проложенной между скалами и болотами, я направился в амбулаторию. Улицы были еще пустынны. Трехтысячное население нашего лагеря еще спало…
В коридоре амбулатории, согнувшись, сидел сонный солдат с винтовкой. В перевязочной фельдшер суетился и хлопотал около какого-то худенького оборванного мальчика на вид лет 14.
— Что это у вас, Петр Иваныч, за паника?
Заведующий амбулаторией, рыжеусый коренастый «кулак», с фельдшерским опытом великой войны, озабоченно качнул головой.
— Да скверное дело, доктор. Собаки, вишь, порвали мальчонку-то…
Вид у мальчика был действительно ужасный. Фельдшер уже срезал часть его лохмотьев, и худое и грязное тело оказалось покрытым запекшейся кровью и рваными ранами. Местами куски кожи и обрывки мышц висели какими-то отвратительными клочьями.
Я вышел в коридор и спросил у солдата, откуда привели мальчика.
Задремавший было солдат встряхнул головой. Его веснушчатое лицо было тупо и равнодушно.
— А хто е знает… С заставы привели. Бегунок — видать… Приказано после амбулатории в изолятор отправить…
— А давно его привели к вам?
— Да не… Вчерась днем….
— Почему же вы раньше не привели его сюда?
— А я не знаю, товарищ доктор… Приказа не было… Мое дело — сторона…
В перевязочной Петр Ивановыч уже раздел мальчика и уложил на стол. Тонкие, как спички, ноги и руки беглеца дрожали, как в лихорадке, мелкой нервной дрожью, а из горла вырывались стоны, вперемежку с судорожными вздохами. За неимением других возбуждающих средств Петр Иваныч налил стаканчик водки, которую мальчик выпил с жадностью, лязгая зубами по краю стакана.
— И что это тебе, дурила-мученик, вздумалось бежать из лагеря? — с ворчливой ласковостью спросил фельдшер.
Паренек с какой-то озлобленностью взглянул на него.
— А что-ж?.. Так и сдыхать по маленькой? — хрипло ответил он. — На баланах что-ль надрываться?.. Все едино подыхать…
— А куда-ж ты бежать хотел?
— Известно куда — в Питер…