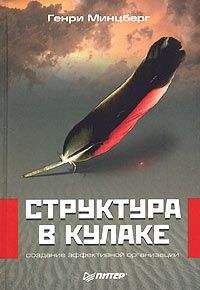— Погоди, милый человек! — Ртищев взял Савву за руку. — Толком расскажи, что приключилось, с кем?
— С Игнашкой!
— Что с ним?
— Да ничего… Прогнали… А он без обеих ног. Ты сюда ехал, так и видел его небось.
— Понимаю, — сказал Ртищев. — От ран излечили — и за порог…
— И за порог! — Савва даже обрадовался: царев человек по-человечески с ним говорил, понимал нужду.
— Это я виноват, — сказал Ртищев. — Обещаю тебе… тебе, себе, Господу Богу! Вернемся в Москву — открою богадельню, где калекам будет покой и призрение.
— А я думал, ты меня за правду-то в глаза велишь высечь! — брякнул Савва.
Федор Михайлович залился краской: стыдно слышать этакое о сильных мира сего. Да ведь люди знают, какая за правду награда.
— Прости! — сказал Ртищев, точь-в-точь как давеча Савва у Игнашки прощение спрашивал невесть за что.
Савва отошел в сторону. Отойдя, поклонился Ртищеву в пояс. Тот тоже поклонился в ответ.
Наутро Савва ушел из монастыря.
Ушел налегке, с куском хлеба за пазухой. Кафтанчик у него был хоть и суконный, да не жаркий, но погода стояла волглая, а шубу — где ж ее возьмешь без денег?
Верстах в пяти от монастыря его нагнали на легких санках две монахини. Остановились.
— Воин, прими монастырскую нашу милостыню во славу Богородицы!
Дали легкую беличью шубу, котомку с едой, мешочек с деньгами.
— Чего ради?! — удивился он, не желая принимать хоть и богатое, но ничем не заслуженное подаяние.
Монахини положили дары на снег, развернули лошадь и умчались. Савва постоял-постоял в раздумье, да и почувствовал, что на спине давно уже мороз щетину отращивает.
Надел шубу — благодать! Заглянул в котомку, а там сверху кусок копченого осетра. Деньги в сапог сунул, не считая.
Шел, однако, теперь не больно весело. Давнее лето, все как есть, стояло перед глазами.
Нет, не простая у него судьба. С царем говорил, с Ртищевым, у своей потаенной любови от смерти спасался… Все — промыслом Божьим.
Дорога верхом шла. С одной стороны — даль и свет, а с другой — свет и даль. Внизу — речки подо льдом, рощи белые. Снег искрит, и пахнет так, словно только что гроза кончилась.
Снова объявились быстрые санки на дороге. Подскочили, стали. Она!
— Не могла тебя отпустить, не поглядев на тебя.
Вышел он из снега на дорогу, чтоб ниже не стоять, а сам обмирает от страха.
— Что ты тихий да несмелый?
— Я — смелый, — отвечает, а у самого голос дрожит.
— Отчего ушел не сказавшись?
— Домой надо…
— К Енафе?
Он так и вскинул глаза.
— Ты в бреду Енафу звал. — Помолчала. — И меня тоже звал. Все плакал, что имени не знаешь.
Он стоял перед нею, переминаясь с ноги на ногу.
— Не забыл, стало быть?..
— Не забыл, — сказал он. — Как же позабыть-то…
— У меня по дороге дом есть, — сказала она.
Он тотчас шагнул в сторону, попал в глубокий снег, запутался в полах шубы.
— Я… к Енафе.
Она засмеялась, но горько засмеялась.
— Каков молодец, а все — мальчик. Мой мальчик-то!
И, сердито дергая вожжами, развернула лошадь. Поехала было, да натянула вожжи, оглянулась:
— Ты хоть не забывай.
Он снова стоял на дороге, поникший, смятенный, торопливо кивал опущенной головой.
— Где ж забыть-то?
Она отпустила вожжи, лошадь пошла, и он побежал было следом.
— Спасибо! За жизнь-то мою спасибо!
Она не отводила от него глаз, но и лошадь не сдерживала, санки мчались все скорей, скорей. Воздух серебряно посверкивал — то взлетала, зависая, невидимая глазу снежная пыль.
— Вот и встретились, — сказал вдруг Савва и вдруг понял, что идет следом за умчавшейся, за той, имя которой никогда не знал.
И сразу вспомнил немых братьев, Енафу, Лесовуху. Повернулся и пошел своей дорогой.
Слева от него были даль и свет, справа — свет и даль, а дорога тоже сияла на двух-то светах.
23
Вот уже три недели, как прекратились в Москве черные подвиги морового поветрия. Государь начал собираться в дорогу. Очень неспешно. Отправлял сначала людей чинов самых низких, каких было хоть и жалко, да не так, как людей ближних.
Доклады из Москвы шли нерадостные. В Посольском приказе умерло половина толмачей. Осталось всего тридцать, и не со всякого языка теперь умели перевести.
Приходил плакать Борис Иванович Морозов. У него от дворни осталось девятнадцать душ — преставились триста сорок три человека. У Никиты Ивановича Романова умерло чуть больше, но и осталось больше, человек сто. У князя Трубецкого, у Алексея Никитича, из всей дворни выжило восемь, у Василия Ивановича Стрешнева — ужас и ужас! — из полтыщи душ один мальчик уцелел.
Печальный счет представил царю патриарх Никон. В Чудовом монастыре, в самом Кремле стало быть, умерло сто восемьдесят два монаха, живы — двадцать шесть. В Благовещенском соборе остался один священник, в Успенском тоже один. В Архангельском службы нет, протопоп утек из Москвы.
Сам государь недосчитался множества слуг. На три его дворца осталось пятнадцать человек дворни.
Но пришел-таки конец неумолимой косьбе. Тут и слезы, и радость. Живым жить!
А на Рождество новое происшествие: сгорела Спасская башня.
24
10 февраля 1655 года, в субботу, государь Алексей Михайлович под звон колоколов вступил в стольную Москву.
Может, со времен взятия Казани не видала Москва подобного государя. Были на ее троне люди добрые, были мудрые, юродивые и чужие тоже были, а вот победителя с той далекой поры не было.
Не было, да вот он!
Торжественное шествие расписал по пунктам сам царь.
К Москве он приехал 9-го с царицей. Царица проследовала в Кремль, в Терем, царь остановился в пяти верстах в монастыре Андрея Стратилата. Патриарх Никон явился в Москву на неделю раньше, 3 февраля, приготовить к торжеству расстроенное моровой язвой духовенство, а 20 февраля совершил въезд в русскую столицу антиохийский патриарх Макарий.
Встречал царя в Земляном городе сам Никон со всем духовенством, с крестами, образами, хоругвью.
Купцы и выборные от ремесленных слобод поднесли государю хлеб-соль, иконы в золотых и серебряных окладах, серебряные чаши, соболей.
Загрохотали барабаны, и по Москве, сиротливо малолюдной, с пустырями от пожарищ, пошло к Кремлю царское шествие.
Впереди несли знамя Успения Богородицы, потом знамя с образом Спаса Нерукотворного, далее святой Георгий Победоносец, святой Дмитрий Солунский, святой Михаил Архангел, царское знамя «Конь бел и седяй на нем».
Двуглавого орла — царский герб — охраняла конница. За конницей с крестами и образами шло духовенство. За духовенством — ратники. В честь Троицы тремя рядами. Одеты в цвета полковых знамен. Под каждым знаменем сотник с секирою.