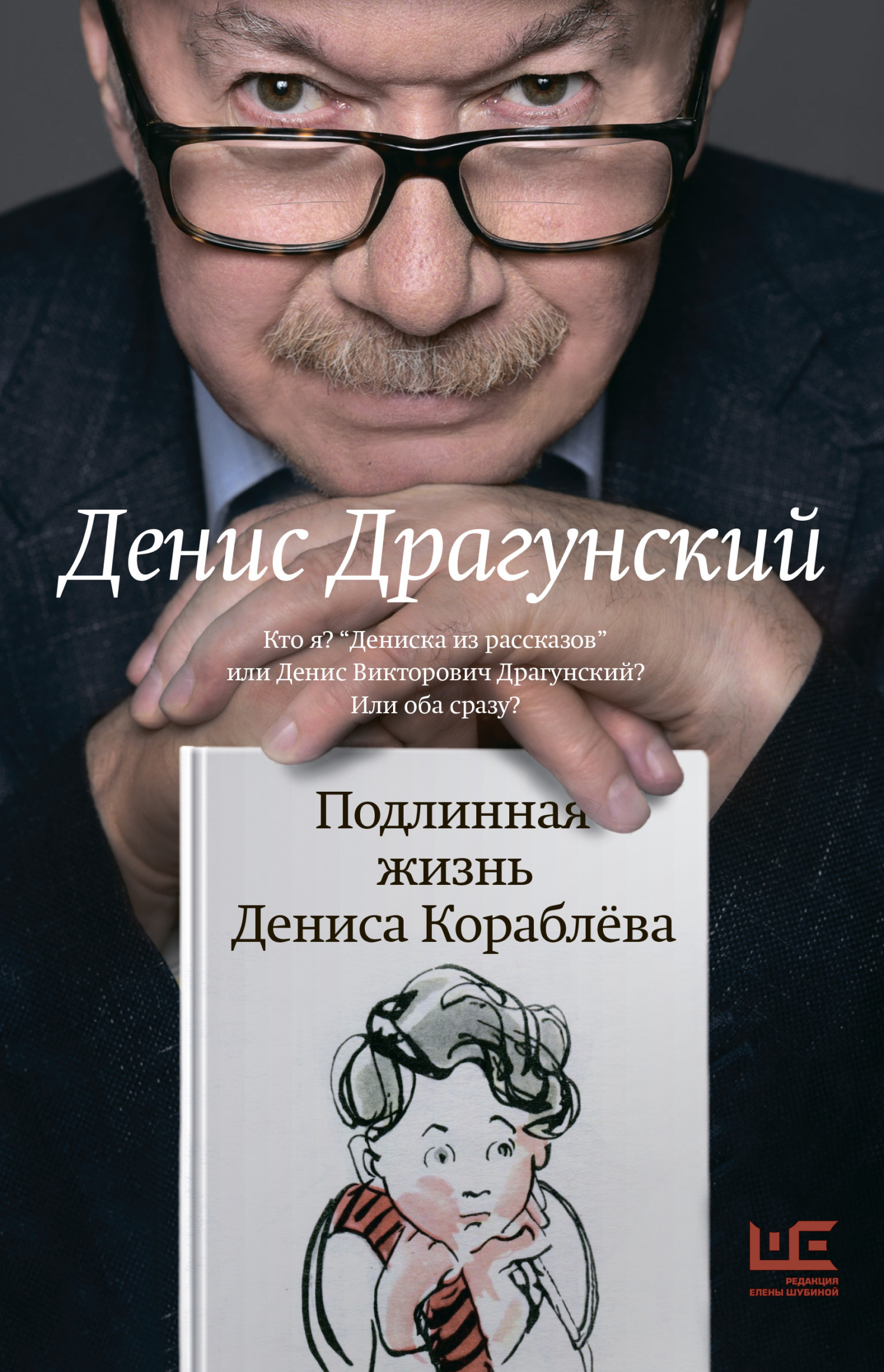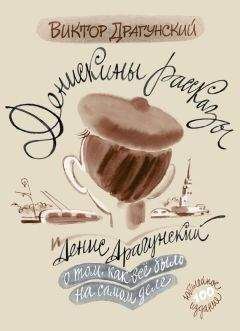сыну: «Денисочка, ты что, с ума сошел, этаким чучелом являться в людное место? Давай быстро дуй домой». А он приветственно помахал мне рукой, показал на место с собой рядом – стол был, наверное, на шесть человек, а сидели четверо – и велел официанту принести мне какую-то закуску. Так мы просидели, пожалуй, часа два, а потом, когда ехали домой, я все-таки чувствовал некоторую неловкость и спросил: «Папа, а как я выгляжу?» – «Все в порядке», – сказал он приветливо, но холодновато. «Нет, – сказал я. – Подожди. Скажи мне точно. То, что у меня на носу была такая хреновина, – это как, ничего?» – «Ничего, ничего!» – сказал папа и перевел разговор на какую-то другую тему.
И я же на него обиделся. А чего я ждал? Что́ он должен был сказать, чтобы я не обиделся? «У тебя такой прелестный носик с этим нарывчиком, что мы все чуть не с ума сошли от счастья»? Наверное, я ждал именно того, что не случилось. Наверное, я ждал, что он выпроводит меня из ресторана. Ласково, по-доброму, по-отечески, скажет: «Ну что ты, в самом деле, ну нельзя же, в самом деле, надо же предел знать». А в его принятии меня таким, какой есть, – мне с моей юной обидчивостью увиделось равнодушие. Как будто бы он меня вынес за скобки. Как будто бы я вовсе даже не обсуждаюсь в этой компании и вообще в этом контексте. Как будто меня нет.
Кстати говоря, толерантность – это и есть вынесение за скобки. Толерантность есть высшая ступень дегуманизации. Я принимаю тебя не потому, что я тебя люблю, а потому, что ты мне пофиг. Остается понять, зачем я тогда пошел в ресторан, зачем я разыскивал папу, проходил через контролершу, объяснял, кто я есть. Чего же мне не хватало? Может быть, с годами я это пойму.
Господин Голядкин, герой повести Достоевского «Двойник», однажды сказал: «Переменяю язык».
Хочется и мне переменить язык и написать что-то в высшей степени лирическое и страстное. Про шепчущие липы в московских июньских дворах. Про поцелуи и объятья. Про горячие губы. Про руку, бесстыдно засунутую под юбку и сминающую ягодицы и залезающую совершенно уже не пойми куда. Вернее, очень хорошо пойми – в нежнейшие бахромчатые краешки среди пушистых складок. Горячее дыхание прямо в мое ухо, и мокрые поцелуи, и густые черные кудри, которые шатром опрокидываются сверху на мое лицо, и глаза, сияющие в свете уличных фонарей, и дрожь, и страсть, и неумелость, и страх, и желание. И ночные звонки, и приезды посреди ночи, когда родители внезапно оказываются где-то далеко. И стыдный рассвет, который совершенно некстати, потому что хочется, чтобы еще побыло темно-темно-темно, как бывает в конце августа, а тут тебе как раз начало июня. И ее грязные ноги, потому что она шла полкилометра босиком. И застиранные бретельки лифчика. И мои позорные сатиновые трусы. И еще можно писать полтора километра, но важно вовремя остановиться и перескочить куда-то в другое место и в другую квартиру, тоже коммунальную, тоже поздняя ночь, и принесенная из кухни на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, мисочка картофельного супа и кусочек хлеба, и мой вопрос: «А что, и суп дают?» – и ее ответ: «И суп дают, и хлеб дают, и всё дают». Но, наверное, писать такой текст уже не надо, потому что вот я его совершенно незаметно для себя написал, а все остальные возможные детали и подробности читатель легко додумает сам.
Недавно, то есть лет десять тому назад, все стали говорить, что детство – это вовсе не лучезарные, сладкие годы, о чем так приятно вспоминать на закате жизни, а вовсе наоборот – страшное время унижений, угнетений, обид, в общем, сами понимаете, время травм. Поэтому человека, который вслед за русским классиком воскликнет: «О, счастливая невозвратимая пора детства!» – а также будет произносить подобные же умильные слова – от «босоногого детства» до «пионерского», – такого человека ждет суровое осуждение современных моралистов.
Впрочем, сама идея, что детство – это время травм, совсем не нова. Ей сильно за сто лет. Об этом писал и сам Фрейд, и его ближайшие последователи. Наверное, они правы. Собственно, приучение к горшку и отлучение от груди – это тоже травмы и тоже посягательство на свободу и комфорт. Не говоря уже о самой главной травме – когда бедный младенец, который так уютно дремал в теплых околоплодных водах, вдруг выталкивается наружу и вынужден больно протискиваться по родовым путям, а потом глотать этот чужой, неприятный, саднящий горло воздух. Есть отчего разораться и вообще прийти в отчаяние на всю оставшуюся жизнь.
Очевидно, прошлые годы, века и тысячелетия в этом смысле не отличаются от нынешних: травма была и остается всегда. Только в стародавние времена (которые длились чуть ли не до 1990-х годов) ее принято было терпеть, воспринимать как фатальную, но при этом полезную неизбежность.
Почему полезную? Да очень просто. Как научиться состраданию, не испытав страдание? Как почувствовать чужую боль, не ощутив свою? Откуда возьмется желание броситься на помощь несчастному, защитить униженного, заступиться за оскорбленного, встать рядом с запуганным – если ты сам на своей шкуре не узнал, что такое отчаяние, унижение, обида и страх?
Но что-то сдвинулось, и детская травма из неприятного, но, увы-увы, необходимого этапа (своего рода психосоциальной инициации) превратилась в нечто невыносимое, нетерпимое и невозможное – и тем самым переместилась в центр внимания. Поди найди сейчас роман о подростках без травмы! Прямо по русской пословице: «Подай мне щенка, да чтоб не сукин сын!» Тех, кто счастливо избежал инцеста, изнасилования или садистских избиений, – их все равно причесывали жесткой расческой, не любили в школе и не давали есть булочки, крича: «Разжиреешь – пожалеешь!»
Так что я тоже вынужден, чтобы не отстать от моды и не выпасть из тренда, поискать что-то похожее на травму в своей детской жизни. В дополнение к ужасающей травме, которую нанесла мне мама, сказав, что тем, кто теребит пепочку, грозит тюрьма, и к кошмарному оскорблению, которое нанес мне папа, ехидничая над результатами педсовета в художественной школе, когда про какого-то мальчика сказали, что он рисует даже хуже Драгунского.
Маловато. Надо вспомнить что-то еще.
Вот, например. Я никогда не считал себя слишком уж маленьким в смысле возраста. Я играл во дворе с мальчиками и девочками самых разных лет. Но однажды, когда я перешел во второй класс, я сообщил об этом своему соседу Володе Кулагину. Типа «Поздравь, я уже второклассник». Он похлопал меня по