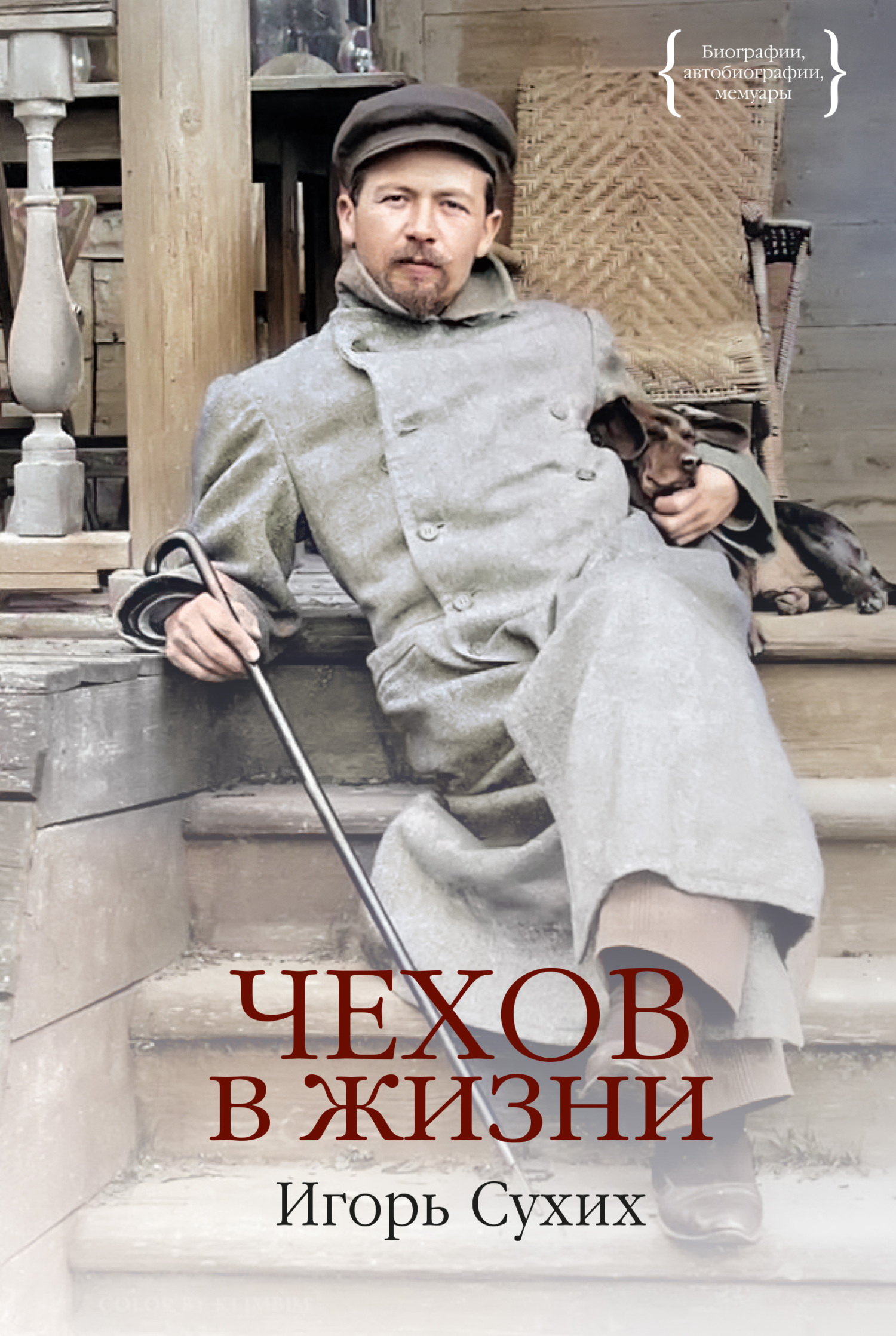511–518.
Толстая (Сухотина) Т. Л. Дневник / Сост. и вступит. ст. Т. Н. Волкова. М., 1979.
Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975.
Чехов Ал. П. В греческой школе; Антон Павлович Чехов – лавочник; В гостях у дедушки и бабушки // Александр и Антон Чеховы. Воспоминания. Переписка / Сост., подгот. текста, коммент. Е. М. Гушанской, И. С. Кузьмичева. М., 2012. С. 43–163.
Чехов П. Е. Дневник / Сост. А. П. Кузичева, Е. М. Сахарова. М., 1995.
Чехова М. П. Из далекого прошлого. М., 1960.
Чехова М. П. Воспоминания в записи С. М. Чехова (1946–1948) // Шалюгин Г. А. Чехов: жизнь, которой мы не знаем. Симферополь, 2004. С. 212–242.
Чехов и…
Филологические сюжеты
Чеховские писатели и литератор Чехов [15]
Исторический подход к «историям русской литературы» позволяет сделать вывод о том, что полученная картина существенно меняется при выборе исходной «единицы» (Л. С. Выготский) анализа.
Наиболее привычной и распространенной является «персональная история» («история генералов», как иронически говорили формалисты), где такой единицей оказывается «очерк творчества» (от Пушкина к Гоголю и т. д.). В 1960–1970-е годы Институт русской литературы (Пушкинский Дом) занимался жанровыми историями: история русского романа, повести, поэзии, критики. Еще во вторую половину XIX века уходят попытки тематических («История русской интеллигенции» Д. Н. Овсянико-Куликовского) и «категориальных» историй («Из истории эпитета» А. Н. Веселовского).
Новый аспект исследований, связанный с идеей «исторической поэтики», открывают разработанные М. М. Бахтиным «формосодержательные» категории «автор», «герой», «хронотоп», «читатель», представляющие собой ключевые, интегрирующие элементы эстетической структуры. Отсюда – идея истории литературы как эволюции форм авторства.
Однако при этом необходимо уточнить само понятие «автор». Под «автором» в разных исследованиях и контекстах подразумевается и изображенный, включенный в художественный мир персонаж («образ автора» в «Евгении Онегине»), и объективное, неперсонифицированное повествование от третьего лица («Отцы и дети» написаны «от лица автора»), и реальный создатель художественного текста (Пушкин – автор «Евгения Онегина»).
Наконец, «автор» может пониматься как «знак, символ системы» (Г. А. Гуковский), как культурологическая категория, возникающая на границах художественного мира произведения и «творческого хронотопа», в котором «происходит… обмен произведения с жизнью и совершается особая жизнь произведения» [16].
Взглянув с такой точки зрения – и в первом приближении – на русскую литературу XIX века, мы увидим три сменяющие друг друга (и в то же время – сложно взаимодействующие) парадигмы, три культурологических образа: поэт – писатель – литератор.
Эпоха поэтов – это пушкинско-гоголевско-лермонтовская эпоха. Ее поэтическое самосознание воплощено в «Пророке» и «Памятнике», в «Смерти поэта» и «Поэте», в «Мертвых душах» и множестве других произведений 1820–1840-х годов.
«Поэт… Поэт есть первый судия человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемый купиной несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века в светлой книге всевечной жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение» [17].
«И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в священный ужас и блистанье главы, и ночуют в смущенном трепете величавый гром других речей…» [18]
Второй член оппозиции внутри данной парадигмы может маркироваться по-разному: народ, толпа, царь, Бог, муза… Но в любом случае культурное пространство вокруг Поэта универсально и иерархично. Он осознает свое творчество как миссию, пророчество и т. п.
В 1840–1880-е годы (границей между эпохами, вероятно, оказывается «натуральная школа») культурная парадигма изменяется, на смену поэту приходит писатель.
«Общественное значение писателя (а какое же и может быть у него иное значение) в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и умственные неурядицы, чтобы освежить всякого рода духоты веяньем идеала… Писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение выше посредственного и очень скоропреходящего» [19].
Культурное пространство «писателя» конкретизируется. Особое значение приобретает уже не универсальный, а социально-исторический контекст. Ведущей в этой парадигме становится оппозиция писатель – общество. А творческий стимул писателя можно обозначить как обязанность. Но объединяет эту парадигму с предшествующей иерархический тип отношений с аудиторией, авторитарное (М. М. Бахтин) слово.
Чехов смотрит на эту традицию со смешанным чувством зависти и восхищения. В известном письме А. С. Суворину от 25 ноября 1892 года он противопоставляет «вечных или просто хороших» писателей предшествующих эпох, творчество которых проникнуто сознанием цели (даже если эта цель «водка, как у Дениса Давыдова»), и писателей своего поколения, своих современников, пишущих жизнь «такою, какая она есть», не имеющих ни «ближайших, ни отдаленных целей» [20].
Можно сказать, что в центре этой новой, «чеховской», культурной парадигмы оказывается литератор (слово, любимое и многократно употреблявшееся Чеховым).
Культурное пространство «литератора» становится фрагментарным, неоднородным, специализированным. «Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут…» – замечал Чехов в упомянутом письме. Литератор тем самым приобретает такой же статус, как и чиновник или торговец, и, более того, попадает в зависимость от них как читателей-заказчиков.
Организующей культурной оппозицией в этой парадигме становится отношение литератор – публика. Вместо утерянного, исторически исчерпанного авторитарного слова литератор должен искать слово «внутренне убедительное» [21]. Творческим стимулом в данном случае становится уже не пророческая миссия и не высокая обязанность, а тяжкий долг (т. е. стимул приобретает по преимуществу внутренний характер).
Такой тип писательского самосознания распространяется на все пространство чеховского творчества. Первоначальным его манифестом может считаться иронически-исповедальная «Марья Ивановна» (1884).
«Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица… Если бы мы послушались вашего „не пишите“, если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.
А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель…
Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая» (2, 313).
Позиция литератора, не хранителя и транслятора, а соискателя истины формирует художественный мир Чехова. В позднем творчестве она, однако, не является предметом прямой рефлексии, осуществляясь главным образом в письмах. Единственное, но принципиально важное исключение – «Чайка». «Разговоры о литературе» в комедии перерастают в своеобразный