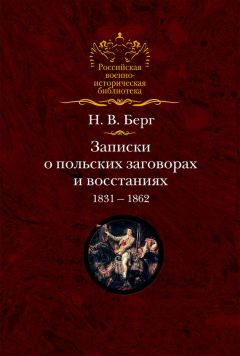Централизация отправила в Познань Мирославского, чтобы он осмотрел положение дел с чисто военной точки зрения и решил, отвечают ли средства заговора тому нетерпеливому стремлению, какое вообще выказывается в партиях.
Мирославский прибыл в Познань в начале марта 1845 года, увиделся немедля с Гельтманом и узнал от него следующее. Партия Мальчевского, будучи скомпрометирована, не находила для себя иного выхода, как сблизиться с Демократическим обществом. Ей последовали в княжестве Познанском так называемые Старые и Плебеи. В Галиции сторонники жизненной правды (prawda żywotna) и федерация тоже изъявили готовность слушаться военного вождя. Из Варшавского комитета пришли довольно благоприятные известия со стороны примирения советов, но организация (писали) там еще все слаба. Малороссия давала знать, что инициативы в деле восстания взять на себя не в состоянии, а готова идти в след за Восточной Галицией во всем, что бы последняя ни предприняла.
Взяв все это во внимание, Мирославский с Гельтманом постановили не начинать ничего до 1846 года, а продолжать дальнейшие приготовления к возможно скорой революции: приобретать сочувственных людей во всех сословиях, собирать деньги и делать другие необходимые восстанию запасы.
Приобретение людей не представляло далеко тех затруднений в Прусской и Австрийской Польше, как в Царстве. Страх имени Паскевича, Варшавской цитадели, Сибири и солдатской карьеры на Кавказе или в Оренбургских батальонах был тогда таков, что охлаждал горячность самых отчаянных. Командовать будущими фантастическими отрядами повстанцев в Русской Польше охотников было немного. Печальные опыты Завиши, Дзевицкого и других были еще у всех в памяти. В особенности трудно было найти командующего центральными силами Царства, то есть в Варшавской губернии. Об этом Централизация рассуждала не раз еще до Мирославского и потом при Мирославском. Наконец из рапортов Познанской организации было усмотрено, что есть в виду на это место человек с именем, со средствами и кое-каким влиянием в обществе, даже немного военный, только, к сожалению, белый, который (как все эти так называемые попросту панки) привык вести жизнь совершенно праздную, среди охот, конских скачек, ярмарочных съездов и женщин, не думая ни о каком отечестве, – и еще менее о каких-либо революциях. Речь была о богатом познанском помещике Брониславе Домбровском, сыне известного генерала наполеоновских времен, «воеводы
Царства Польского» Генриха Домбровского, имя которого вошло в народные песни и патриотические куплеты. Этот Домбровский был женат на польке самых храбрых свойств, из дома князей Лонцких, которая, вскоре по выходе замуж (1842), получила от отца в заведование прекрасное имение в Станиславовском уезде Варшавской губернии Куфлев[72], что заставило молодую чету переехать на некоторое время в Варшаву, представиться наместнику и сделать другие знакомства. Домбровские были приняты в Замке и во всех русских домах высшего круга самым лучшим образом: поддержка польской аристократии лежала, как известно, в системе управления Паскевича краем. Люди, стоявшие во главе заговора, взяли во внимание такое положение вещей. Связь Домбровских с высшим обществом в Познани и в Варшаве, большие имения там и тут, естественно, позволяли владельцу переезжать границу, когда вздумается, не возбуждая никакого подозрения властей.
В то время когда Централизация нашла командующего на самый важный пункт, во всех организациях уже не церемонились не только с белыми, но и ни с кем. Уже в 1843 году начали некоторые знакомые Домбровского в Познани подшучивать над его немецкими симпатиями[73], дружбой с русскими и прусскими офицерами. Потом он получил несколько анонимных писем, исполненных угроз; а в начале 1845 года ему объявили напрямик, что он должен делать то же, что делают все, то есть нести свои силы и средства на помощь воскресающей Польше.
В самом деле, около этого времени заговор охватил уже все, что только было польского в Европе. Домбровский слышал на базаре, в баварской гостинице и других публичных местах Познани довольно открытые рассуждения поляков разного цвета о приготовлениях к самому обширному восстанию, имеющему конечной целью освобождение всей Польши и восстановление ее границ 1772 года. Не только демократические кружки, но и вся аристократия сочувствовала этому предприятию. Уже все ближайшие родственники Домбровского по жене: Лонцкие, Бнинские стали на сторону заговорщиков. В имении Лонцких, Свинярах и у Бнинского в Самострелах происходили даже революционные съезды, как это бывало всегда – под видом охот. Такие же съезды бывали после в Джокей-Клубе, основанном под Шверином Домбровским, в сотовариществе с помещиками: Сулковским, Альфонсом Тачановским, Михаилом Мыцельским и Венсерским. В Охотничьем клубе, основанном помещиком Здембинским в Чевуеве, под осень 1845 года, учили молодежь ездить верхом, чем заведовали Курнатовский и частью Домбровский, как известные знатоки этого дела. Происходили и другие упражнения, с целью подготовить людей для военной службы в недалеком будущем.
Домбровский, белый, праздный, лентяй, думавший до того времени только об охотах, лошадях да красивых женщинах, решительно ничего не читавший, никаких газет и журналов не бравший в руки, не заметил, как его подхватила и понесла куда-то революционная волна, и он, сам не зная как, был уже полуреволюционером: говорил с сочувствием о том же, о чем говорили все; мечтал о независимой Польше, о месте, которое в ней будет занимать, читал разные листки, являвшиеся из эмиграции, “Пшонку" и другие газетки. Прочел историю Мохнацкого и Мирославского о революции 1830–1831 годов, твердил патриотические стишки. В мае 1845 года был он в имении своих родственников, в Букском округе, где встретил человека одних с ним лет, то есть около 30, который рекомендовался ему помещиком Ковальским, прибывшим в ту сторону из Парижа по участию в наследственном процессе Опалинских, наделавшем в то время изрядного шуму. Они разговорились. Ковальский очень скоро очаровал Домбровского и даже заинтересовал своей особой. Так как тогда вообще ходили слухи о появлении множества агентов-эмигрантов между поляками всех захватов, то Домбровский решил, что это также агент, прибывший в те места, конечно, не ради процесса Опалинских, а с другими целями. Это было действительно так: Ковальский был не кто иной, как сам Мирославский. Он объезжал различные округи прусского и австрийского захватов, всматривался в положение их повстанских дел, собирал всевозможные сведения, делал знакомства, приобретал, где было удобно, людей, сочувствующих восстанию, и к осени того же года (1845) воротился в Версаль. Он не находил заговора готовым к восстанию, но тем не менее видел, что все напряжено очень сильно, жертв принесено довольно, довольно также и скомпрометированного или хотя полускомпрометированного народа, то есть разорвавшего прежние связи с немцами и наблюдаемого полицией; взрыв мог случиться сам собой, без разрешения высшей власти – Централизации. А потому он счел необходимыми на всякий случай заняться приготовлением плана военных действий и стал над ним работать вместе с другим членом Централизации – генералом Высоцким.