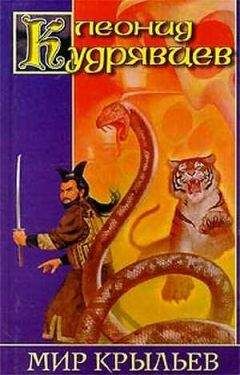— Где ж ты пропал? Я думала не увидимся.
— С солнышком прощаюсь.
— А со мной?
Пока стаскивала через голову легкое платьице, он схватил ее за ногу, потянул на себя. Люба запрыгала на одной ноге, заойкала и, не удержавшись, упала на вытянутые руки Леонида Павловича — расхохоталась. Смотри, Ирина, смотри. Все вы одной породы, и на Колю твоего начхать. Ирина, действительно, обернулась, одарила прямо-таки ослепительной улыбкой. Коля посмотрел подозрительно. Но Леониду Павловичу было уже не до них. Теплое женское тело извивалось в его руках. Невинная сначала возня заходила до того самого градуса, за которым начинались скрытые, распаляющие ласки. Они все сильнее прикипали друг к другу и только смутное табу элементарного приличия заставляло откинуться и заглушить желание каким-нибудь акробатическим приемом. А зачем? Зачем глушить? Вот река, вон излучина — там тальник растет. А луга-то какие, господи! Накинув на себя простыню, он протянул Любе руку. Важной походкой патрициев двинулись они вдоль берега. Проходя мимо Ирины, патриций не удержался — припал губами к тоненькой шейке, Ирина отзывчиво дрогнула ножкой, но Леонид Павлович выпрямился и в два прыжка очутился рядом с Любой. Они шли, взявшись за руки, оставив за спиной цепкие взгляды пляжного табора — впереди курчавилась зелень, на дальних полях исходила фонтанчиками поливная машина.
— А там вдали, вдали за косогором...
— Плывет качается... — подхватила Люба и голоса их слились:
— Серебряна луна...
Обрывистый берег скрыл их. У самой воды они остановились. Место было глинистое, с редкой травой поверху. Леонид Павлович завалился на какую-то кочку. Люба разделась. Сложила выгоревшие трусики, лифчик, огляделась. Две белые полоски матовым светом ударили в глаза. Он прищурился. Молочные груди рубиновыми зрачками обводили окрестности, а каштановый холмик, изнывая от бремени переполнявших его сокровищ, откровенно соблазнял на раскопки. Но что-то Любе не приглянулось здесь.
Только Леонид Павлович потянулся к ее крепким шоколадным бедрам, они извернулись вдруг, и Люба с тихим визгом, призывно вильнув полушариями, бросилась в воду. Леонид Павлович — за ней. Вынырнул у противоположного берега. Держась за ветку, он другой рукой вытаскивал подплывшую Любу. Они скользнули в кусты. Гибкие ветки тальника сомкнулись за ними и только густые, тонкие листья, мокро блестя на солнце, выдавали этот скрытый лаз. Трава тут была высокая и шелковая. Качали головой ромашки.
... Автобус пылил по сельским дорогам. Журналисты, разменяв на посошок двухнедельную зарплату на пару дюжин яблочного вина, ехали домой. Сидели кротко — посапывали. Ни с того, ни с сего — будто шило в бок. Леонид Петрович напрягся и сильно забеспокоился. Ему вдруг показалось, что он чего-то напутал в ирининых телефонах и может ее потерять и, может быть, навсегда.
— Коль, а Коль, — тормошил он соседа.
— Ну? — поднял веки Коля.
— Какие у ней две последние цифры?
— Домашний или рабочий?
— Любой.
— А ты угадай, — оживился Коля.
— 39? Нет? 93? 19?
— Не угадал, — вздохнул он облегченно.
— Ну скажи тогда.
— Не скажу, — победно ухмыльнулся Коля и добавил. — Боюсь, что тебе не понадобится.
Однако Леонид Павлович не ошибся. Дней через десять, находясь в командировке, он позвонил из другого города — трубку сняла Ирина.
Они ходили в кино, на разные вечера, в гости. Помимо невинного кокетства в Ирине угадывалось еще что-то серьезное. Охотно говорила о работе, о каких-то там программах к каким-то там вычислительным машинам. И все же что-то неуклюжее было в их встречах. То она заспешит вдруг посреди вечера, то начнет заигрывать с кем-нибудь, то устанет некстати, то растанцуется с кем-то, не обращая никакого внимания на Леонида Павловича.
Однажды он чуть ли не силой втащил ее в свою комнату и повалил на кровать. Она вдруг посерьезнела, посмотрела на него чистыми взволнованными глазами и строго сказала: «Не посмеешь. Я девушка». И это в двадцать три года! Леонид Павлович поразился. Он осторожно поцеловал Ирину. Было ясно — она никогда не станет любовницей. Но и терять ее было нелепо. Их отношения Леонид Павлович отдал воле случая. Время рассудит. Будь что будет.
С той поры звонил он ей реже. Лишь в исключительных случаях, когда в омуте жизни он терял всякое чувство чистоты и порядочности, когда душа судорожно билась в поисках горнего света, он сжимал ее тонкие пальчики и проводил с нею час-другой. Да, не в лучшем состоянии духа являлся он к ней, и предложение сделал с полным ощущением безысходности и тупика. Леонид Павлович не был уверен, правильно ли он поступил. Та ли Ирина девушка? И вообще была ли женитьба для кого-нибудь когда-либо спасением?
Надо бы показаться у хороших знакомых. Пусть, например, Элла — жена Сани, очень понимающая женщина — пусть она поглядит на Ирину. Что скажет? Но в тот вечер, во вторник, Эллы дома не было и Леонид Павлович пригласил Ирину в ресторан.
— Почему без цветов? — то ли шутя, то ли серьезно удивилась Ирина при встрече.
— Они тут, — Леонид Павлович элегантно тронул худую грудь.
Ресторан был закрытого типа. Вышколенный метр провел их к дальнему столику, расшаркался: «Мадам». «Мадемуазель», — поправила Ирина. Леонид Павлович сверкнул очами. Покашлял с достоинством.
Он мало ел и много пил. Болтали о пустяках. Чем ближе к делу, тем чаще замолкал Леонид Петрович. Трусил и хмурился. Прикончив вторую бутылку красного грузинского «Напереули», вроде бы осмелел, начал было говорить о главном и осекся. Врать не мог, а правда получалась безрадостной.
— Трудно мне, Ирина, и все тут, — сознался Леонид Павлович. Ирина ждала, что он еще скажет. Он говорил о том же. И даже с каким-то остервенением. Не жалея ни ее, ни себя, рисовал жуткую картину своей безысходности, говорил, что только в ней, в Ирине, он видит желанную точку опоры и нет для него другой надежды в этом неудавшемся, запутанном мире. Потом спохватился: «Я люблю тебя... Очень...» Эти слова чахлым цветочком увенчали такую гору нагроможденного хлама, что Леонид Павлович сам же их устыдился. «Но почему хлам? почему хлам?» — мучился он, глядя на потемневшую лицом Ирину. Хоть каплю чуткости, ну хоть легкий признак простого сочувствия, понимания что ли, искал он в ее глазах, но то, что стояло в них, больше всего походило на разочарование. Конечно, так нельзя. Не с этого надо начинать с девушкой. Надо было: «Души не чаю», — и все такое, красивое. А потом: «Вот я такой, я эдакий, то есть талантливый и перспективный, но вдруг — пропасть. Пропасть — это ты». Вот как надо было разворачиваться. Но Леонид Павлович не охмурял. Пусть она знает все, как есть. Обжегшись однажды, он не хотел случайного брака. Жизнь это тебе не корзина цветов, не лак для ногтей. Бывает и так, что трудно жить. Это тоже надо понять. Она может, должна понять.