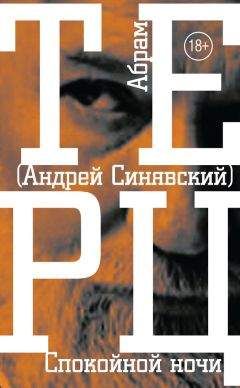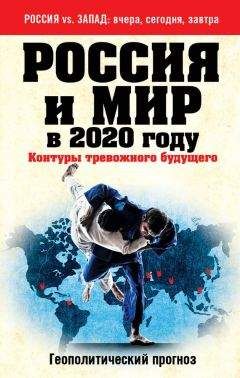ситуацией конца 1950-х – начала 1960-х, здесь показано, чего смогла достичь незашоренная оригинальность.
Произведения Терца того времени, его «Фантастические повести», можно читать в качестве дополнения и продолжения критических работ Синявского. Хотя критические статьи Синявского были предназначены писателям и критикам, повести адресуют те же запросы к читателю.
Надежды Синявского на будущее русской литературы уходили корнями в культуру прошлого, в особенности в альтернативные, не-реалистические культурные традиции России и Западной Европы. Любовь Синявского к иррациональному, нашедшая выражение в характерном искусстве Терца, представляла собой акт несогласия и отторжения материалистических, позитивистских версий реализма, официально принятых государственной властью. В этом он следовал по стопам не только таких мыслителей, как Шестов и Розанов, но и писателей XX столетия – например, Замятина и Пильняка [67]. Давая волю воображению, Синявский объединяет модернистские идеи и техники с темами, истоки которых лежат не только в фантастическом и иррациональном в творчестве Гоголя и Достоевского, но и в западноевропейском романтизме, к примеру, в использовании двойника в «Ты и я» – галлюцинаторного сдвига между реальностью и иллюзией.
Модернисты были в числе тех, кто подвергался особо яростным нападкам советского режима: с конца 1930-х они были под запретом, а с 1946 года стали отдельной мишенью для атак. Борьба за отмену этого запрета началась в годы «оттепели». Модернизм с его энергичным откликом на реалии своего времени, его художественной смелостью и независимым творческим духом был особо симпатичен Синявскому. Начав писать под именем Терц, он естественным образом взял на вооружение темы и методы, которые ассоциировались с его излюбленными авторами-модернистами, включая Замятина, Бабеля и Олешу.
Яркой чертой модернизма в его футуристической стадии было тесное соприкосновение с кубизмом в живописи, что размывало границы между литературой и изобразительным искусством [Харджиев 1970]. Это нашло свое отражение в повестях Терца – его техника «странностей» зачастую реализуется посредством живописного или кинематографического приема. Хороший пример данной техники – внезапные резкие сдвиги места и времени, которыми открывается «Гололедица»: знакомый городской ландшафт Москвы внезапно преображается в обледеневшую пустыню, населенную монстрами, которые неожиданно принимают свой истинный вид трамваев, когда герой пробуждается от грез. В той же повести мы наблюдаем деконструкцию реальности в форме последовательности событий, взятых кадр за кадром, но ускоренных и смонтированных в обратном порядке [Терц 1992, 1: 196].
Зачастую Синявский не просто переориентирует восприятие реальности читателем, но и шокирует его чувства, обостряя до предела. В «Пхенце», пользуясь традиционной фигурой стороннего наблюдателя, чтобы отстраниться от того, что в обществе воспринимается как бытовая норма, он деконструирует внешний облик женщины по имени Вероника, технически представляя его в манере кубизма. Гротескное переосмысление женских форм одновременно смешит и смущает.
Здесь, без сомнения, присутствует элемент желания Синявского «эпатировать буржуазию» (в духе и манере Маяковского), ликующая радость от вопиющего нарушения правил хорошего тона и реалистического повествования (снова и снова Синявский подчеркивает связь того и другого в пуританском декоруме соцреализма), в то время как нарушение временной последовательности и работа с текстом в пространственных категориях бросает вызов линейному, целеустремленному социалистическому реализму [Kelly, Lovell 2000: 5].
Однако его выход за рамки приемлемого и традиционного – не самоцель, а творческий акт. Как писал Синявский (в соавторстве с И. Н. Голомштоком) об искусстве французских кубистов, «эти манипуляции <…> формами часто служили им лишь главным средством проникновения в новые аспекты реальности» [Голомшток, Синявский 1960: 23] [68]. Сдвиг в его собственных произведениях к пространственно-ориентированному обращению с текстом, который естественным образом вел к открытию «пространства» читателю, чтобы тот вошел в него, в большой степени коренится в этих модернистских влияниях начала XX века.
Фантастические повести Терца на одном уровне представляют собой опыт образного письма, экспериментальную прозу, которая укрепляет взаимосвязь с богатым, новаторским прошлым, не просто перерабатывая существующие идиомы, но добавляя новые смысловые уровни в те моменты, когда они встраиваются в контекст настоящего, причем, неявным образом, во взаимосвязи с жизнью Синявского. На другом уровне это произведения в жанре литературной критики, которая устанавливает новые стандарты и дает новые возможности для взаимодействия между писателем и читателем, читателем и текстом. Читателю остается установить связи между различными слоями литературных отзвуков и аллюзий на реальную жизнь, которые и придают тексту полноту и значимость.
Биография как зрелище. Биография как проживаемая жизнь
В этот период все возрастающая активность Синявского-писателя заставляет его задаться вопросом писательской биографии и ее выражения художественными средствами. Его труды как критика подчеркивают парадоксальную потребность в развитии уникального, индивидуального самовыражения, «личного голоса», заботясь в то же время, чтобы эго и личность художника не брали верх над искусством. По его мнению, это одновременно и художественный, и нравственный императив: «Претворение жизни в поэзию является очень сложным и ответственным делом» [Меньшутин, Синявский 1961a: 249].
Опорные точки Синявского – это кардинально разные случаи Маяковского и Пастернака, понятие о биографии как о зрелище в противовес биографии, которая есть не зрелище, а прожитая жизнь. Любя и ценя обе эти полярные противоположности, с годами он научился объединять их, достигнув синтетического подхода к биографии, которую создал для себя как писателя. Точно так же, как позднее он использует Пушкина и Гоголя в качестве контраста друг для друга, указывая их схожесть и одновременно подчеркивая различия как писателей, он противопоставляет Пастернака и Маяковского, чтобы сложить их воедино, не отвергая одного в пользу другого, но используя одну фигуру, чтобы взглянуть на другую с новой перспективы.
Понятие о биографии как о зрелище, согласно Пастернаку, было характерно для его эпохи, эпохи революции, и Синявский это учитывал. Он отличал не только Маяковского, но и других наиболее одаренных поэтов за их умение «не просто сидеть и писать стихи, но создавать свои собственные биографии в прозе» [Laird 1986: 8] [69]. Именно подобной глубокой связи не хватает, как считал Синявский, в произведениях его современников, таких как Евтушенко и Вознесенский; отсутствует «идея избранничества, великого и страшного жребия, сообщавшие судьбе поэта нечто провиденциальное, непреложное и в то же время позволявшие развернуть собственную биографию наподобие легенды, мифа, мистерии, возвысить частную жизнь до уникального “бытия”, наполовину реального, наполовину вымышленного, творимого изо дня в день на глазах изумленной публики» [Синявский 1967: 116].
Концепции биографии как зрелища внутренне присуща идея жребия поэта, неизбежности насильственного или безвременного конца как отличительной, аутентичной черты жизни и творчества автора, которая вписывает его в традицию, начатую Пушкиным. Пастернак говорил об этом применительно к Маяковскому в «Охранной грамоте», размывая границы между смертью Маяковского и смертью Пушкина почти сотней лет раньше. Синявский-Терц выражает ту же