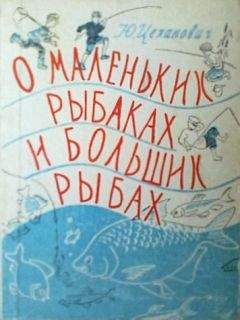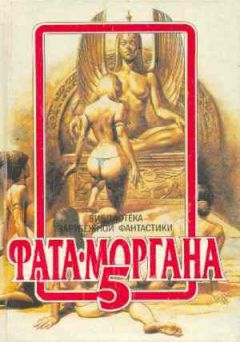Ознакомительная версия.
Она взмахивает рукой, словно отбрасывая, отметая все ненужное, лишнее, — и умолкает. Потом продолжает рассказ.
«Он не упускает случая уколоть побольнее, — говорит она, втыкая в воздух воображаемую булавку. — Знаешь, что он сказал, о чем спросил меня, когда позвонил после моего сердечного приступа? «Ты в последнее время так растолстела — врачи не советовали тебе сбросить вес?» Я на него накинулась. Сказала, что он вечно всех критикует».
Я вставила свой вопрос: «А бабушка когда-нибудь критиковала его?»
«О, нет! — Тетя Дорис даже удивилась такому предположению. — Она считала его совершенством. В ее глазах он никогда не бывал неправ».
Глаза совершенного художника или писателя. «Лавина боли» истинных поэтов или художников, которой «впору заполнить карету скорой помощи», согласно его кредо, идет именно из глаз. «Разве он не единственный ясновидец на нашей земле?…Настоящего поэта-провидца, который может творить и творит красоту, ослепляют насмерть его собственные сомнения, слепящие образы и краски его собственной священной человеческой совести». Вы можете, как в «Голубом периоде де Домье-Смита», увидеть мистическое превращение ортопедических аппаратов в ослепительный сад из дважды благословенных цветов, но для меня все это по-прежнему будет припахивать больничными утками.
Если отца судить по его собственным законам, по тем моральным меркам, какими он сам меряет и смысл своей жизни, и свои повседневные обязанности, он мог бы встретить своего создателя с высоко поднятой головой. Как Симор пишет Бадд, и:
«А знаешь, почему я смеялся (когда они вместе записывались в армию)? Ты написал, что твоя профессия — писатель. Мне показалось, что такого прелестного эвфемизма я еще никогда не видел. Когда это литературное творчество было твоей профессией? Оно всегда было твоей религией. Всегда… А раз творчество — твоя религия, знаешь, что тебя спросят на том свете? Впрочем, сначала скажу тебе, о чем тебя спрашивать не станут. Тебя не спросят, работал ли ты перед самой смертью над прекрасной или задушевной вещью. Тебя не спросят, длинная ли была вещь или короткая, грустная или смешная, опубликована или нет… А тебе задали бы только два вопроса: настал ли твой звездный час? Старался ли ты писать от всего сердца?.. Если бы ты знал, как легко тебе будет ответить на оба вопроса: да».
Мой отец в самом деле всю жизнь писал от всего сердца. Я, однако, не убеждена, что жизнь, которую он ведет, — образец уравновешенности и беззаветного труда или же путь к какому-никакому покою. Может быть, он ошибается, а может быть, и прав. Может быть, прав на словах, но ошибается на деле. Я знаю одно: эта философия, или религия, или поза служили ему оправданием: я живу так, как мне хочется, а остальные могут хоть провалиться. Препятствовать его работе по какой бы то ни было причине, значит не просто создавать помеху или неудобство: это значит совершать святотатство. Не стой на моем священном пути: отойди в сторону или погибни. Прав отец или нет, но такая позиция вполне согласуется с нарциссизмом, делая священными самые крайние его проявления. Вопрос, однако, скользкий: для кого нарциссизм, а для кого — святость. Как говорил Зуи: «сокровище есть сокровище, черт бы его побрал, и мне сдается, что девяносто процентов ненавидевших мир святых, о которых мы знаем из священной истории, были, по сути дела, такими же непривлекательными стяжателями, как и все мы».
Я так же отношусь к отцовскому образу жизни, как Зуи к тому, что Фрэнни следует «Пути пилигрима». Вот что Зуи втолковывает ей:
«Что бы я ни говорил, у меня получается одно: как будто я хочу подкопаться под твою Иисусову молитву. А я ничего такого не хочу, черт меня побери! Я только против того, почему, как и где ты ею занимаешься. Мне бы хотелось убедиться — я был бы счастлив убедиться, — что ты ею не подменяешь дело своей жизни, свой долг, каков бы он, черт побери, ни был, или просто свои ежедневные обязанности…»
И снова раввин Файн помогает найти ответ на им же сформулированный взрывоопасный вопрос: «Как узнать, поступаю ли я хорошо и правильно?» Раввина спросили, есть ли какой-то богословский критерий, с помощью которого можно оценить образ жизни, предлагаемый «новыми религиями». Он ответил:
«Да, критерии, конечно, есть. Я говорю о евреях. В иудаизме существует три основных критерия… Во-первых, ты должен спросить себя: не причиняю ли я кому-нибудь вред? Во-вторых: добавляю ли что-либо к уже известному? Хотя иудаизм допускает интуитивное переживание, частное, личное, не поддающееся выражению, ты должен уметь поведать о нем языком рассудка. Не о самом переживании, а о его последствиях. В-третьих: появилась ли у меня положительная жизненная программа? Заметно ли, что я стал лучшим мужем, не таким сердитым, более снисходительным, заботливым? Это — очень мощные ценностные установки. Евреи по-разному служат Богу, но цель служения — более совершенные взаимоотношения и взаимодействия. Если качество жизни улучшилось после религиозного переживания, значит, свершилось нечто истинное. Сюда включается и укрепление семьи, и приверженность общинным ценностям… В большинстве религиозных групп существуют наболевшие проблемы. Там ничего по-настоящему не свершается, разве что в „собственном маленьком мирке“ их членов. По-настоящему они ничего не делают. Спросите их, почему».
Я тоже выбралась из собственного маленького, опутанного снами мирка, чтобы «спросить их, почему». И все же, когда рассеялся сон о безупречном папе, некоторые воспоминания о наших с ним счастливых временах вернулись иными. Они подлинные, и они принадлежат мне. Я могу извлечь их из памяти и наслаждаться ими всюду и всегда. Мне теперь не нужно дожидаться возвращения отца из эфирных областей. Когда я прекратила погоню за папой из небесных сфер, кошмар адского папы перестал преследовать меня. Я теперь могу увидеть талантливого человека, который, как и все мы, не плох и не хорош. Как Волшебник говорил Дороти: «Я не такой уж плохой человек, на самом деле, скорее хороший; просто я очень плохой волшебник».
Все, что я открыла, останется со мной, эти сведения для меня драгоценны: меня восхищает попытка родителей создать подобие Эдема во ржи, совершенного мира. Нравятся мне и пути, которыми они шли. Есть великая красота в погоне за сном, хотя на практике сон часто оборачивается кошмаром[254].
Часть нашего несовершенного общества, семья Сэлинджеров, имеет свои сильные и слабые стороны, плюсы и минусы. Есть и красота, и опасность в попытке создать рай на земле. Чтобы населить рай, нужны люди совершенные — или мертвые — но не простые смертные, которые «находятся в становлении»; несовершенные, но которым простятся прегрешения их. Однако такие попытки позволяют взглянуть на небеса, без чего жизнь была бы слишком тяжелой ношей.
Ознакомительная версия.