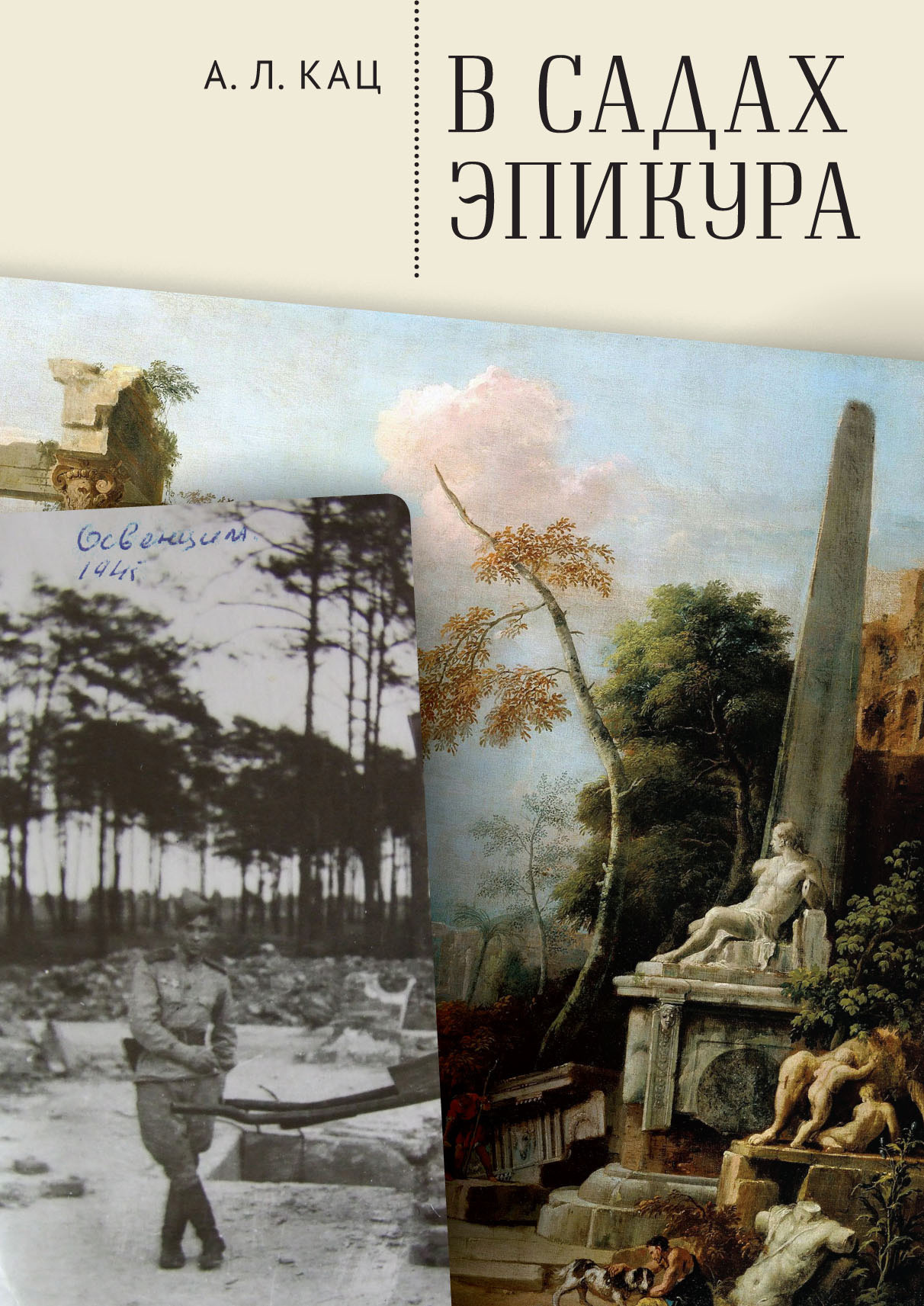арестовали и вскоре он был расстрелян. Клавдии Александровне не предъявили никакого обвинения, кроме того, что она была женой расстрелянного Николая Кручинкина. За это она получила 10 лет лагеря. Их она и отбыла. Дети выросли. Конечно, они очень жалели Клавдию Александровну, но матерью считали ту ее сестру, которая их вырастила. Расстрелян был и Очаговский и еще много людей. Здесь безотказно действовал принцип, провозглашенный еще в первые десятилетия Римской империи: за измену императору несли кару не только виновные, но и все люди, как-то соприкасавшиеся с обвиненными в измене. Понятно, что и в Риме, и еще больше у нас понятие «измена» толковалось совершенно произвольно. Доказательств не требовалось: достаточно было обвинения. Я по глупости спросил Клавдию Александровну: «Неужели никто, ни в чем не был виноват?» Она ответила: «Как твой отец». Я замолчал. Она была права. Мой вопрос был нелепым. Она с ненавистью говорила о Сталине, Молотове, Ворошилове, которые, руками Ежова, расправились с мнимыми политическими противниками, людьми, подлинно знавшими вполне ординарную роль «вождей» в делах революции.
Ликвидируя множество людей из числа интеллигенции и военных, высокопоставленных, талантливых и вполне рядовых, Сталин создавал ту политическую атмосферу, которая одних заставляла молчать, других ошеломляла и лишала возможности трезво мыслить, оценивать события, судить о политике. Система массовых репрессий явилась безусловно важнейшим фактором, укрепившим единовластие Сталина. На земле, удобренной людскими костями, было выращено оболваненное поколение, нередко искренне считавшее гением обыкновенного деспота. Он нужен был клике, как Сулла легионам. Клика нужна была ему, как легионы Сулле. На терроре пышным цветом распустился деспотизм Сталина, вполне отвечавший примитивному, вымуштрованному мышлению большинства забитого некультурного народа. Умные люди (в той мере, в какой остались) в лучшем случае недоумевали и были подавлены страхом. Вышколенная бюрократия рукоплескала с бараньим энтузиазмом, потому что благоденствовала на дозволенном уровне, соответствовавшем невзыскательным привычкам и дурному вкусу. Масса не имела данных для сравнения и потому тоже не жалела ладоней, когда узнавала из газет, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Успехи так называемого социалистического строительства никакого отношения к возникновению и процветанию сталинского деспотизма не имеют. Террор создал культ, официальную идеологию, которая вколачивалась в головы всеми дозволенными, а по большей части, недозволенными средствами. Это более, чем тривиальный, политический прием. На протяжении всей истории наиболее ничтожные режимы провозглашали и провозглашают свои особые успехи и заслуги перед человечеством. Не соглашавшихся с подобными толкованиями событий легко устраняли. Остававшиеся в живых рукоплескали.
Еще в 1936 г. в поселке Сокол была выстроена отличная средняя школа, получившая № 149. В нее я и перешел со своими приятелями Юркой Зыковым, Петькой Закалинским, Васей Моргуновым. Наступила новая пора жизни. Петровы поменяли свою квартиру на две большие комнаты в центре Москвы. Николай Константинович объяснил эту акцию так: «Игорь перерос поселок!» Сам переросток, ходивший в это время, кажется, в четвертый класс, важно объяснял: «Будем жить в Камергерском переулке». Мать и я оставались без жилья. Кооператив в Соколе к этому времени был распущен. Нам вернули наш взнос (3000 рублей). Положение казалась безвыходным. Правда, Борис к этому времени имел приличную комнату в Сокольниках. Но он жил со своей второй женой Лелей и ее сынишкой Юрой, который был младше меня на два года. Ожидалось и пополнение. Чуть позже родилась Таничка. Короче говоря, о переезде к Борису думать было нечего. На помощь пришли люди, жившие в соседнем доме (Левитана 22). Там была захламленная терраса. Именно ее и предложили нам. Домоуправление кое-как превратило террасу в жилую комнату, и мы с матерью переехали на новое место. Двенадцать метров жилья. Здесь я прожил, с перерывом на время войны, до декабря 1953 г. Спал вместе с матерью до 19 лет, т. е. до ухода в армию, на войну. В комнату, конечно, можно было впихнуть раскладушку, но она становилась вплотную к царь-кровати, так что дело практически не менялось. К тому же с раскладушкой требовалось возиться – вносить, выносить и т. д.
Между тем в Камергерский переулок пришла общая беда. Арестовали Николая Константиновича. Никто, разумеется, не мог себе представить, в чем он обвиняется. Патриархальные времена 1934 г. давно миновали. Семья врага народа должна была ликовать и радоваться разоблачению опасного преступника и никаких вопросов не задавать. Правда, Зинаида Антоновна предполагала, что Николаю Константиновичу вспомнили какое-то отношение в отдаленном прошлом к эсерам. Николай Константинович, проведя около двадцати лет в лагерях, был реабилитирован и трясущимся стариком вернулся в Москву. Навестил мою мать. Я, к сожалению, с ним не встретился. Квартира в Камергерском переулке к этому времени принадлежала другим, а нового адреса я не знал.
Мать работала в ателье по пошивке корсетов и бюстгальтеров. Она ходила в передовиках, считалась стахановкой. Почему-то во главе столь женского предприятия стоял мужчина, который в своих многочисленных выступлениях перед коллективом ателье требовал увеличения выпуска корсетов и лифчиков «в связи с запрещением абортов». Закон о запрещении абортов произвел на него, как мне кажется, ошеломляющее впечатление. Он считал его вершиной юридической мысли. Как-то я был на банкете, устроенном в ателье, по какому-то поводу. Мать очень хотела, чтобы я продекламировал перед собравшимися стихи. Не удалось. Пока люди были в состоянии что-то воспринимать, они слушали речь о запрещении абортов. После этой речи им было просто не под силу постигнуть трагизм «Василия Шибанова», составлявшего гвоздь моего репертуара, но неактуального, т. к. к запрещению абортов баллада А. К. Толстого никак не относилась.
Так вот мы жили с матерью. Жили безбедно, но беспокойно. Как-то соседи сообщили матери, что приходил человек в штатском, узнавал о ней, спрашивал, как мы живем, кто у нас бывает и т. д. Я поехал рассказать об этом Борису, жившему в то лето на даче под Москвой. Он нахмурился, ничего не сказал. Возвращаясь домой, я очень боялся не застать матери, думал, что ее арестовали. Оказалось – нет. Я лег спать, а мать так и просидела до утра, оперевшись локтями на подоконник открытого окна.
Материальных трудностей мы не испытывали: мать скоро приобрела широкую известность, как корсетница, к ней обращались даже московские артистки. Она зарабатывала достаточно, хотя и трудилась очень много. Посылали нам деньги и дядя Митя (до 1938 г., когда его арестовали) и дядя Саша (Александр Владимирович, работавший в Свердловске). Мне иногда на карманные расходы подкидывал Борис, Кирюшка регулярно посылал мне по 15 рублей в месяц (в старых деньгах, конечно).
Отношения с братьями складывались по-разному, с суровым Борисом, хотя он ко мне и относился хорошо, дружбы не было. Его жена Леля тоже относилась ко мне неплохо, но