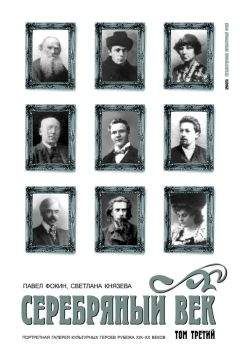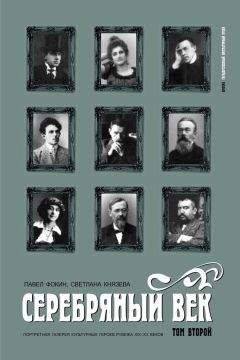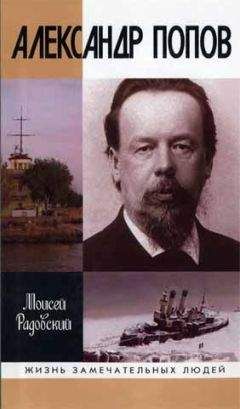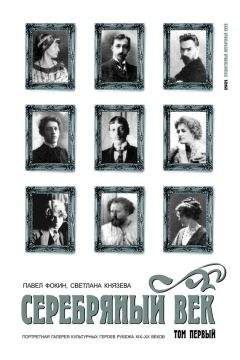«Он был долговязый, с длинной шеей и тощ, как мощи, и ходил точно на цыпочках. Он мог быть очень ехидным, но при этом он сам был полон милейшего добродушия. Я только часто не знал, говорит он всерьез или шутит.
Художник он был тонкий, но скромный – и невероятный лентяй. Я помню только два его масляных пейзажа и несколько небольших акварелей. Яремич был одним из первых в „Мире искусства“, который дал пример орнаментальных надписей и букв, украшавших „Мир искусства“ и „Художественные сокровища России“, это была безукоризненная каллиграфия самого чистого стиля. Он был киевлянином и до „Мира искусства“ работал с Врубелем по росписи храма св. Владимира.
…Он обладал большим литературным и критическим талантами, был очень знающим историком искусства; написано им и для „Мира искусства“, и для отдельных книг было очень много, также и в советское время, когда, между прочим, он написал очень внимательное и очень меня тронувшее предисловие к альбому моих литографий Петербурга» (М. Добужинский. Воспоминания).
«Даровитый художник (живописец-пейзажист и рисовальщик), Степан Петрович был и выдающимся специалистом по вопросам музееведения и реставрации. Его труды в области истории русского и западноевропейского искусства составили существенный вклад в нашу искусствоведческую литературу. …Прирожденное чутье, безошибочная интуиция и чувство стиля помогли ему стать одним из лучших знатоков старинного графического искусства. …Черты большой художественной культуры и замечательной искусствоведческой эрудиции сочетались в нем с коллекционерским энтузиазмом и с некоторой „богемностью“. В нем уживались благодушие и скрытность, осторожная деловитость и способность увлекаться, простота и лукавство, холодная дальновидность и пылкая предприимчивость. У него был большой жизненный опыт, обширный запас впечатлений и воспоминаний. Старость и болезнь сломили в нем волю к художественному творчеству (в последние годы жизни он не занимался живописью), он охладел и к литературной работе, всячески уклонялся от нее, – но искусство само по себе, прекрасные полотна, виртуозные рисунки, произведения больших мастеров продолжали его волновать до последних дней жизни. Судьба какой-либо замечательной картины, судьба редкого и ценного наброска интересовали его как событие личной жизни, заставляли вновь и вновь загораться восхищением, искать, спорить, доказывать, убеждать. В истории музейной и коллекционерской жизни и даже шире – в истории русской художественной культуры – имя С. П. Яремича не должно и не может быть забыто» (Э. Голлербах. Памяти С. П. Яремича).
1861, по другим сведениям 1870 или 1871 – 30.11.1930
Драматург, театральный критик, режиссер. Сотрудник газет «Речь», «Киевская мысль». Публикации в журналах «Театр и искусство», «Золотое руно», «Правда», «Современная жизнь» и др. Автор пьес «Брак» (1900), «Волшебник» (1902), «У монастыря» (1905) и др. С 1906 заведующий литературным отделом в театре В. Комиссаржевской. В 1910 открыл в Москве собственную театральную школу. С 1920 – за границей.
«Редеющие каштановые волосы, зачесанные назад. Большой лоб, впору шекспировскому. Под ним светлые, огромные глаза, так глубоко засаженные, что глядят точно из пещер, обрамленных крепкими, костистыми арками – худоба и остроугольность их удивительна. Низ лица явно стремится к треугольнику с рыжеватой бородкою. Мягкая и не первой юности шляпа, черный галстук, длинный сюртук, крылатка и серые матерчатые перчатки, голова несколько вдавлена в плечи, брови насуплены – так проходит Ярцев в скромном старомодном облике своем по переулкам Москвы, близ Арбата, по Плющихе, в Левшинском…
Петр Михайлович появился в моей памяти зимою 1905 года. Художественный театр репетировал тогда „У монастыря“, трехактную лирическую его пьесу. Автора вовсе не знали в литературе. Что-то ставил он в Петербурге, чуть ли не у Суворина. Но Художественный театр… Сразу мог он дать славу, деньги, положение. Говорили, что Немирович увлекается новой пьесой и новым драматургом. Драматург жил в небольшой квартирке на Плющихе. В кабинете его висел Ибсен, лежало несколько книг. Стол был покрыт серым сукном, обои серо-зеленоватые. Тут писал, курил, пил крепчайший черный кофе хозяин. Он и дома сидел в сюртуке – очень длинном, не весьма новом. Нечто и донкихотовское, и монашеское было в его облике.
…Он жил совершенною птицей небесной. Более беззаботного, бессеребряного и неприспособленного человека я не встречал. …Петр Михайлович был тогда глубоко богемен. Над чашкою кофе мог сидеть без конца в кафе, что-то записывать, о чем-то размышлять. Встретившись с кем-нибудь из молодежи, мог оказаться в кабачке, от сумрачной молчаливости перейти к нервической оживленности, якобы загореться – поправляя галстук и откидывая назад волосы, увлекательно говорить о театре, все на нервах, на нервах…
…Ярцев любил такую жизнь. Будучи старше нас, загорался не меньше. Хотя нередко – так же быстро и гас: глубоким неврастеником был всегда, и всегда в сердце его лежало зерно горечи. Душевное опьянение лишь временно затопляло эту горечь.
„Романтический человек с раненою душой“ – так можно было бы определить его. Он мечтал об особенном театре (исходя, впрочем, от Станиславского), о высоком, духовно-облегченном искусстве. Ему хотелось, чтобы чувства на сцене сквозили чистейшими, прозрачными красками. Действительность, даже в Художественном театре, этого не давала.
Огромность требований Ярцева к театру, к любви, к жизни ставила его в тяжкие положения» (Б. Зайцев. Москва).
«В сезон 1908/09 года в Киеве появился новый рецензент, приехавший из Москвы, – Петр Михайлович Ярцев. Он был приглашен заведовать драматическим отделением театрального училища М. Е. Медведева, и ему же „Киевская мысль“ поручила рецензировать спектакли Соловцовского театра.
П. М. Ярцев, человек угрюмо сосредоточенный, желчный и раздражительный, страстно любил театральное искусство и хорошо разбирался в ведущих направлениях современной сцены. Конечно, по знаниям, по художественному вкусу он стоял на голову выше киевских рецензентов, привыкших, как школьные учителя, ставить актерам отметки.
…П. М. Ярцев принес на страницы „Киевской мысли“ совсем иное. Он анализировал рисунок актерских ролей, отмечал удачные и неудачные интонации, мимику, малейшие подробности игры, восторженно приветствовал удачи и зло критиковал ошибки, промахи, даже мелкие упущения актеров. Ярцев писал сложным, затрудненным языком, словно запутывался в паутине слов, ища выражения мучившей его мысли. Рецензии Ярцева были столь необычны, что не могли не задевать за живое киевских театралов. Некоторые считали его глубочайшим знатоком театра, жрецом музы сцены, другие же воспринимали его как несправедливого критика, грубостью своей прикрывающего чуть ли не невежество.