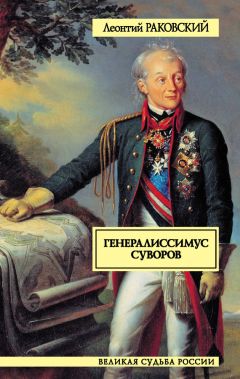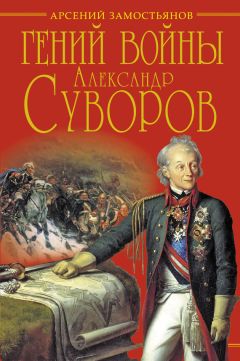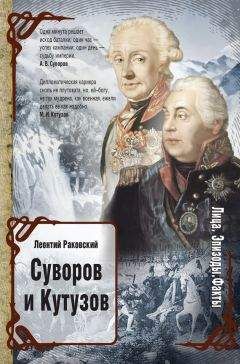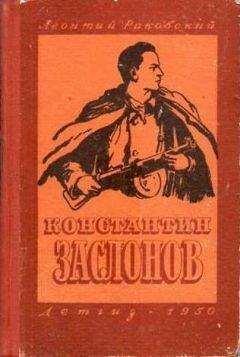– Дядюшка, я знаю, что вы от этой болезни не умрете, – старался уверить его Димитрий Иванович Хвостов.
– Думаешь?
– Убежден!
– Ладно. А ежели я остаюсь жив, сколько еще лет проживу?
– Пятнадцать!
– Злодей, скажи: тридцать!
Но все-таки с каждым днем он слабел все больше и больше. Он прекрасно помнил далекие годы турецких войн, но путал названия городов, рек в прошлогоднем Итало-Швейцарском походе.
Больше надоедливой фликтены угнетала Александра Васильевича царская опала: она добивала последние силы генералиссимуса.
Суворов на Крюковом канале жил уединеннее, заброшеннее, чем даже в Кончанском: он был заперт в четырех стенах комнаты.
Царская немилость не ослабевала.
Павел I лишил Аркадия звания генерал-адъютанта, которое он пожаловал во время Италийского похода, и определил его вновь в камергеры. А 25 апреля отнял у генералиссимуса Суворова его адъютантов.
Это окончательно убило Александра Васильевича. Напрасно Хвостов доказывал дядюшке, что сейчас такая полоса, что Павел I сыплет выговоры генералам направо и налево, что за весну он уволил из армии трех полных генералов, шестнадцать генерал-лейтенантов и пятьдесят семь генерал-майоров.
Суворову от этого было не легче.
Здоровье его ухудшалось с каждым днем. Жизнь уходила.
И на второй неделе своего пребывания в Петербурге Суворов стал все чаще терять создание.
На пятнадцатый день ему стало очень плохо. Царь, узнав о его тяжелом состоянии, прислал к нему князя Багратиона.
Когда Багратион приехал вечером на Крюков канал, в доме Хвостова стоял переполох. В прихожей неистово сморкался, плакал денщик Прохор. Перепуганные дворовые девушки Хвостовых сбились у двери прихожей, несмело заглядывали в залу.
Навстречу Багратиону выбежал сам Димитрий Иванович Хвостов – растерянный и растрепанный.
Александр Васильевич лежал без сознания. Племянница Аграфена Ивановна и заплаканный сын Аркадий (дочь Наташенька была в Москве) терли Александру Васильевичу спиртом виски. Фельдшер Наум давал нюхать спирт.
Багратион застыл у кровати. С перекошенным от боли лицом он смотрел на своего учителя и друга.
Суворов, худенький и маленький, лежал с закрытыми глазами.
Вот наконец он с усилием открыл глаза. Смотрел куда-то вверх, в одну точку. Потом медленно перевел глаза ниже, на Багратиона.
Багратион сделал движение к нему, робко улыбнулся.
Но Суворов еще, видимо, не узнавал своего любимца.
Улыбка сползла с лица Багратиона.
Суворов с минуту смотрел да Багратиона в упор. Потом в его потускневших глазах мелькнула искра сознания.
– А, это ты… Петруша. Здравствуй! – с трудом сказал он и опять закрыл глаза.
В безумной тоске, в отчаянии бросился Багратион к Суворову. Он опустился на колени, припал к этой исхудавшей руке, которая всегда указывала ему путь к славе.
Великий полководец уже шел в свой последний переход…
Северны громы в гробе лежат.
Державин
Унтер-офицер Огнев, уволенный со службы по старости лет, и ефрейтор Зыбин, получивший отпуск, помаленьку доставлялись домой. Путь их лежал через Петербург. В столицу они попали в Николин день. Здесь их ждала ужасная, потрясающая новость: в воскресенье, 6 мая, во втором часу пополудни, скончался их Дивный. Умер батюшка Александр Васильевич.
Друзья, не отдохнув с дороги, только умывшись и почистившись, направились на Крюков канал к дому Хвостова, чтобы в последний раз поклониться своему генералиссимусу.
Ни Огнев, ни Зыбин, конечно, ни разу не бывали в этом доме графа Хвостова и не знали точно, где он находится.
Будочник у Торгового моста указал им на двухэтажный дом:
– Да вон энтот. Ступайте за певчими, вон пошли от Николы Морского.
Огнев и Зыбин обрадовались, что можно идти вслед за кем-то. Они догнали певчих и за ними поднялись по узкой лестнице на второй этаж.
В прихожей пахло ладаном, хвоей, свечами. Было полно народу.
Входили и выходили какие-то барыни и господа. В углу немолодой протоиерей, заворотив широкий рукав рясы, торопливо расчесывал гребнем окладистую бороду. Дьякон откашливался рокочущим басом. Лысый пономарь раздувал у печки кадило.
Сквозь толпу, в настежь раскрытые двери прихожей и залы виднелся ее уголок, затянутый черным сукном. На черную стену падал красный отблеск свечей.
Из залы слышался монотонный, журчащий, точно ручей, голос чтеца.
Мушкатеры в нерешительности остановились: можно ли сюда солдату?
И вдруг из этой чужой толпы вынырнул свой, знакомый, денщик Александра Васильевича Прохор Иваныч. Он был в лучшем кафтане с двумя золотыми медалями на груди. Его лицо распухло от неумеренных возлияний последних дней.
Нисколько не смущаясь присутствием разных господ, Прошка кинулся к мушкатерам, громко крича:
– Братцы родимые! Чудо-богатыри! Орлы суворовские! Умер наш батюшка!
И в пьяных слезах припал к плечу Огнева, причитая:
– Всю жизнь страдал. Настрадался. И умер в день Иова Многострадального.
Огнев заморгал глазами.
– Пойдемте, поглядите на нашего соколика!
Прошка потащил мушкатеров в залу. Господа невольно расступились перед ними.
Огнев и Зыбин вошли в залу. Все стены ее были обтянуты черным сукном. Только вверху, под потолком, бежала белая полоска карниза. Посреди залы на высоком катафалке стоял гроб.
Первое, что увидел Огнев, что запечатлелось, было до боли знакомое, родное лицо. Тонкий нос. Впалые, исхудавшие щеки. И губы, сложенные в ироническую, снисходительную улыбку. Глаза были закрыты.
Александр Васильевич закрывал глаза, когда задумывался или бывал чем-либо недоволен.
Казалось, эти ясные глаза откроются, плотно сжатые губы разомкнутся и скажут со смешком: «Эх вы, немогузнайки!»
Огнев упал на колени. Сзади за ним грохнулся Зыбин. Размашисто крестясь и вздыхая, Огнев зашептал: «Господи Сусе!»
Вслед за ними в залу вошли протоиерей, дьякон и певчие. Лития началась.
Сотрясая воздух, загремел могучий дьяконский бас. Все слова у него получались круглыми и упругими. Они как-то легко, непроизвольно соединялись воедино. Бас рокотал, точно хотел разбудить Александра Васильевича от его страшного сна.
Протоиерейский тенорок был скорбен и тих. Протоиерей говорил раздельно, не спеша, но негромко. Он словно боялся потревожить покой Александра Васильевича.
А тенора слаженного, стройного мужского хора заливались в такой безысходной, неизбывной печали, что из глаз сами собой катились слезы.
Было невероятно слышать, как протоиерей говорил:
– Упокой душу усопшего раба твоего болярина Александра…
Не верилось, не хотелось верить, что «болярин Александр» – это он, их Дивный, их батюшка Александр Васильевич.