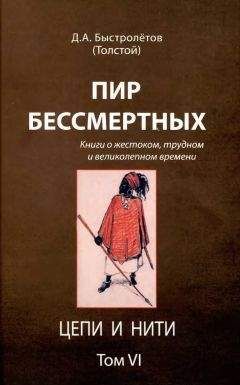— Ты, может, заметил, доктор, что в Суслово я последний год-полтора стала ходить на работу? Заметил? Я это не посупиться хотела, а просто лагерь мне надоел и воровская житуха тоже. Захотелось чего-то делать. Я всё думала — куда мне пойти? В пошивочную мастерскую, в тепло и к нашему бабью, не захотела — боялась, что поймут неверно, вроде я ищу пути к начальству и перековываясь на ходу. Я пошла на холод и в грязь — ремонтировать трактора. Сначала инженеру-мастеру платила, он меня учил слесарному делу, а как все начала схватила, так пошла потом сама. Очень мне слесарная работа нравилась и чем дальше, тем больше: я угадывала, что скоро мне не руки понадобятся, а голова. Радовалась тому очень и по первые в жизни стала мечтать о воле, чтобы учиться.
Она на мгновение задумалась.
— А тут освобождение. Бросить бы мне Грязнульку и идти, но гордость не позволила. Бабы всё подкалывают со смешочком: «Новую жизнь, мол, строить собираешься? Иди к оперу или в КВЧ — они помогут! — А за цыганку свечку богу поставь — он простит!»
Я Грязнульку на волю вывела, а как жить дальше, не знала. Она же быстро сообразила, и я оглянуться не успела, как она меня привела в шалман и на воинские поезда. Я всё откладывала разговор, а время шло, и деньги нам плыли шальные. После лагерной баланды и хлеба с полынью захотелось хлебнуть жизни. Ну и хлебнула.
Потом почувствовала, что Грязнулька мне вроде на шею садится и мягкими своими руками мою голову туда поворачивает, куда хочет. И я от неё сбежала.
Куда бежать? Сунулась на завод — всюду документы проверяют. Соображаю — докопаются до наших приключений с офицерами, надо менять законную ксиву на липу, она надёжнее. А в Свердловске, знаю, у меня старый кореш — Метеор. Приехала. Ищу. Нет ни его, ни Луизы. Думаю, живут на липе, это проще. Обратилась в шалман. Там мне и сказали, что вроде Метеора в Свердловске не было, а липу мне дали без разговоров — крепкую, на бетон, прямо от начальника паспортного стола. Я на завод и в слесаря. Полгода поработала, а там направили как ударницу в школу. Ну, думаю, сбываются мечты!
Вечером в первый день пришла с книгами и не могу — заперлась в комнатушке, села за стол, обняла книги и реву — от радости, доктор! От благодарности судьбе, значит, за настоящую жизнь! Вдруг стук. Отворяю дверь — Грязнулька. Она меня через шалман выследила. Комнату я через шалман же и получила, доктор…
Верка закусила губу. Опустила голову.
— Ну, а дальше? Говори уж до конца, Верка!
— Поймешь?
— Постараюсь. Говори.
— Грязнулька вплыла в комнату разряженная, как картинка. Такой я ещё не видала: красавица! «Здравствуйте, мол, Вера Гавриловна! Пойдите сюда ко мне поближе!» И пальчиком с малиновым ноготком манит. Я подошла. «Сюда!» Я подошла к окну. «Глянь вниз, сука!» — она мне прошипела. «Видишь на углу стоят два фраера и вроде курят? Это наши из шалмана — Иван-Зуб и Васёк-Картошка. Ты сучиться захотела, а? Из шалмана ксиву и комнату получила и теперь бочком — в кусты? На завод? В школу?» Она меня ручками за ворот схватила и к своему лицу тянет: «Не выйдет, гадина!» Тут-то, доктор, и ударила мне в голову горячая кровь: наш закон я знаю и ведаю, зачем на углу поставились Зуб и Картошка. Да много ещё и во мне осталось старого. Хотела было сказать, что, мол, ладно, чего ссориться, но увидела книги, моими слезами оплаканные: они лежали ещё на столе, где обедала. Ну…
Она запнулась.
— Ну?
— Схватила я нож и сделала Грязнульку начисто. Как она упала, я выскочила на улицу. Зуб и Картошка ко мне. «Куда?» — «В милицию». Они хотели чтой-то сказать, но как моё лицо увидели, промеж себя переглянулись и отстали.
Верка укусила себя за руку и долго так стояла с зубами, впившимися в своё тело. В зале шумел окончившийся ужин, раздавались крики и песни.
— На следствии мне припомнили, что деньги мы с Грязнуль-кой у офицеров доставали из портфелей и карманов, а бумаги все обратно уничтожали — зачем они нам? Только улика… А среди этих бумаг оказалось много военных документов большой важности. Сначала меня за американскую шпионку приняли и стали бить, потом я всё рассказала и они вроде поверили. Но сомневаются до конца: не попали ли всё-таки документы в чужие руки, не использовали ли нас американские шпионы? Решили на всякий случай расстрелять.
Она подняла лицо, и опять я увидел горящие огнём внутренней силы большие серые глаза. Такие, как в Суслово, на чтении лекции о Сталине. «Гроб есть Гроб, это понимать надо!» — вспомнились тогдашние гордые и самоуверенные Веркины слова…
— Жизнь кончается, доктор! Я плачу не от страха перед смертью. Не от жалости за Грязнульку. Веришь, мне, доктор? Верь! Плачу потому, что схватилась за тот край лагерной ямы, хотела подняться и не удержалась: грязная земля посыпалась под ногтями и я повалилась обратно на самый низ. Туда, откуда возмечтала выбраться на чистый воздух…
— Вон она! — закричал начальник конвоя, внезапно рванув дверь настежь. — Хватайте её!
Настал указанный Анечкой октябрь.
— Ну вот и конец всему! — разочарованно протянули члены нашего творческого кружка, когда я, запыхавшийся от волнения, прибежал из Штаба и скороговоркой сообщил о том, что вызван в Москву и что стрелок ждёт меня у ворот.
Лица у всех вытянулись и поблекли:
— Шёлковая Нить обрывается…
— Почему же?! — вскипел я. — Чепуха! Вы же остаётесь? Вы — это и есть Шёлковая нить.
Но все только покачали головами.
— Вы были нашим признанным вожаком. Пастырем. Исчезнете вы, и стадо рассыплется… Шёлковая Нить — не мы, а творчество, наше общее героическое усилие. Без вас его не будет.
— Да бросьте ныть! Что за слова?! Вместо амбулатории станете собираться в клубе под видом репетиций: это будет ещё незаметнее! Выше головы! Давайте руки на прощанье!
Мои друзья грустно протянули руки.
Мы крепко-накрепко обнялись.
— Сейчас сложу вещи и иду к воротам. Прощайте!
Но Катя побледнела, насупилась и, выдернув листок из медицинского журнала, села в сторону.
— Что это вы?
— Пишу вам на память. Николай, садись и ты!
Оба поэта, нахмурив брови, углубились в творчество. Я быстро уложился и через полчаса вернулся назад.
— Ну, товарищи поэты, вы готовы?
Улыбающийся Николай Петрович Кузнецов и нахмуренная Катя Владимирова протянули мне свои листки. У обоих получились удачные вещи — у Кузнецова шуточная, на тему о расставании и встрече двух потёртых монет, у Кати — серьёзное, о смысле нашего общего дела.
Судьба обоих произведений оказалась различной. Кузнецов написал своё стихотворение на папиросной бумаге, Катя — на обёрточной. День был ветреный и морозный, градусов 25. Идти далеко. Конвоир и заключенный сняли бушлаты, покрылись с головой, обнялись; я крепко взял стрелка за автомат, и мы зашагали по сугробам. Холод не располагал к частым остановкам. Но пройдя километров пятнадцать, решили сделать перекур. Папиросная бумага Николая Петровича пошла на цигарки, и его стихотворения я, к сожалению, не запомнил. Осталось в памяти только растроганное и улыбающееся лицо. Но побледневшее лицо Кати тоже не забылось, как и её стихотворение, написанное на жёлтой обёрточной бумаге, не подходящей для курения. В Марраспреде я заучил стихотворение наизусть.