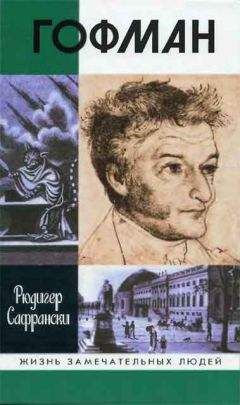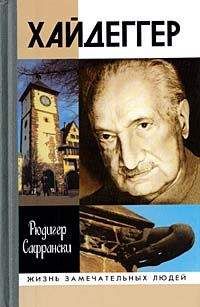То было великое время непосредственной связи между жизнью и литературой. Гёте в своих воспоминаниях дает еще немало примеров этого. Его история с Фридерикой в Зезенхаймской идиллии развивалась по сценарию романа Голдсмита «Векфильдский священник» — еще один случай из жизни, происходивший по литературному сценарию, в котором заранее распределены роли, определена атмосфера и установлено действие.
От литературы исходила некая чарующая, инсценирующая жизнь сила. Более того, от нее и требовалась такая сила. Что было верно в отношении «большой» литературы, то могло быть справедливо и для так называемой «развлекательной литературы» — семейных романов Лафонтена, историй о разбойниках Вульпиуса и романов о тайных союзах, сочинявшихся Гроссе и Крамером. И в этом случае литературные образцы властно вторгались в жизненные процессы читающей публики. Жизненный и читательский опыт начинали столь тесно переплетаться, что порой невозможно было отделить одно от другого. Юный Клеменс Брентано[17], которому казалось, будто он целиком соткан из литературного материала, отмечал в письме своему брату: «Постепенно я все больше и больше осознаю, что ими (романами. — Р. С.) непроизвольно определяется множество наших действий и что особенно женщины к концу своей жизни становятся простыми копиями героинь из романов».
Литературная конъюнктура увлекает за собой публику, которая на какое-то время утрачивает способность отделять литературу от жизни или же еще не обретает такой способности.
В неистовом увлечении чтением и писательством выражается обостренное чувство собственного достоинства. Это чувство проистекало из осознания собственной индивидуальности, пробужденного эпохами Просвещения и Сентиментализма. Возникает потребность в осознании самого себя, от жизни требуют жизненности, и если внешние обстоятельства препятствуют этому, то как раз идентификация с литературными образцами и помогает вычленить из коснеющего в бессмысленной повседневной рутине потока жизни значительные моменты. Отражая свою жизнь в зеркале литературы, человек повышает ее ценность, придает ей насыщенность, значение, драматизм и определенную атмосферу. Так читатель, стремясь обрести собственную, утраченную в повседневности экзистенцию, может прийти к наслаждению своим собственным «я».
И юный Гофман читает так, словно в книгах речь идет о его собственной жизни. В один из вечеров он принимается за чтение «Осеннего дня» Ифланда и находит там сцену, изображающую встречу двух друзей, предающихся ностальгическим воспоминаниям о давно ушедших годах совместной университетской жизни. В тот же вечер Гофман пишет своему другу Гиппелю элегическое письмо. Прошло всего полгода, как друзья расстались, их счастливое общение продолжается, но, дабы иметь возможность переживать его с большей интенсивностью, Гофман берет за образец литературную сцену, переносит ее в воображаемую даль давно прошедшего. Он искусственно превращает настоящее в прошлое, чтобы придать ему элегическое мерцание. В этом мерцающем свете и Гиппель должен видеть их дружбу и для этого должен читать Ифланда, ибо «обращение к прошедшим счастливым временам приносит высокое духовное наслаждение» (12 января 1795).
Благодаря чтению обретают очертания и собственные переживания. Гофман идентифицирует возлюбленную своих юных лет Дору Хатт с девой солнца Корой из популярной пьесы Ифланда. Подобно замужней Доре, Кора связана обетом, не позволяющим ей следовать зову своего сердца. Но в отличие от Доры, чувства которой остаются весьма прохладными, театральная Кора преисполнена страстной любви. Короче говоря, мир, в который мысленно переносится Гофман, называя свою Дору Корой, импонирует ему.
Но смешение литературы и жизни — особенно для времени, в котором страстное увлечение литературой во многом способствовало и овладению искусством саморефлексии, — не могло не казаться делом довольно сомнительным. «Мы вышли из литературы», — констатирует юный Тик[18]. Подобного рода признания делает и Брентано. В своем раннем рассказе «Фермер — Гениальный» Тик высмеивает это. Он говорит о неком влюбленном, у которого в кипение страсти примешивается подозрительный шумок шуршащей бумаги: «А не дурак ли я? — сказал он про себя. — Разве не изображено, не обрисовано со всей ясностью в „Клавиго“, нет, в „Стелле“, все мое состояние!» Он вернулся и, попивая кофе, перечитал эту вещь. «Хорошо все-таки, — думал он при этом, — что есть книги и стихи для всех людей и на все случаи жизни; здесь я узнаю себя в малейших подробностях, словно бы автор наблюдал меня собственными глазами».
Мания инсценировать жизнь по примеру литературы, возможно, подвигла Тика и на перевод «Дон Кихота», ибо тема романа — вытеснение жизненного опыта опытом читательским: герой живет в мире своих рыцарских романов и не замечает живой реальности. Этот роман, публиковавшийся в переводе Тика с 1799 по 1801 год, читался как эпос об угрожающем «империализме» литературы, о лжеединстве литературы и жизни.
Власть литературизации проявлялась также и в политике. Деятели великих революционных событий в Париже представлялись образованной публике исполнителями ролей, хорошо известных из античной, римской литературы. Классическое образование делало возможным этот эффект дежа-вю: образы Цезаря, Цицерона, Брута, возможно также Суллы и братьев Гракхов стояли перед глазами. Например, роль Брута на сей раз исполнялась женщиной — Шарлоттой Корде, кроткой фанатичкой из Нормандии, которая 13 июля 1793 года заколола кинжалом народного трибуна Марата в его собственной ванне. Клопшток, Виланд и многие другие поэты воспели в стихах этот поступок как убийство тирана, воскрешающее в памяти лучшие литературные образцы.
Лишь в такой обстановке одержимости литературой, когда взаимное проникновение литературы и жизни стало почти повседневным явлением, и могли зародиться честолюбивые теоретические концепции ранних романтиков. Эти молодые люди, жившие в Йене и Берлине, Фридрих Шлегель, Новалис, Брентано, Тик, принадлежали к поколению Гофмана. Они наделали много шума, и тем не менее Гофман в своем далеком Кёнигсберге поначалу их не заметил. Однако они вдохновлялись идеей, вихрь которой затянул и Гофмана: литература должна заставить жизнь танцевать под свою дудку. Йенцы в своих попытках расшатать устои переходили всяческие границы. Все их честолюбие было направлено на снос институциональных перегородок между искусством и жизнью. Фридрих Шлегель и Новалис придумали для этого занятия специальное определение — «романтизация». Любая жизнедеятельность должна насыщаться поэтическим значением, должна выражать своеобразную красоту, обнаруживать формообразующую силу, точно так же обладающую «стилем», как и произведение искусства в узком смысле слова. И вообще искусство для них являлось не столько продуктом, сколько событием, которое может происходить всегда и везде, где деятельность людей наполнена творческой энергией и жизнеутверждающим воодушевлением.