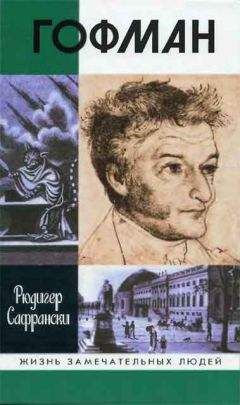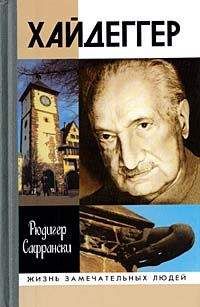Горный инженер Фридрих фон Харденберг (1772–1801), взявший себе псевдоним Новалис, был, например, убежден в том, что и «деловые обязанности» могут исполняться поэтически. Фридриху Шлегелю веселая компания представлялась частицей реализовавшейся «универсальной поэзии». Свободное пересечение границы между искусством и жизнью являлось важнейшим требованием ранних романтиков.
Жизнь, по их мнению, может стать искусством, стоит лишь решиться воспринимать ее как нечто необыкновенное, и не важно при этом, продолжает она или нет идти своим заведенным порядком. «Стоит лишь нам однажды попытаться представить себе обычное необычным, как мы с удивлением обнаружим, сколь близки к нам и то поучение, и то упоительное блаженство, которые мы искали в далеких, с трудом достижимых краях. Чудесное зачастую лежит у наших ног, а мы высматриваем его в телескоп». Так писал в 1795 году Тик, и юный Гофман мог бы высказаться точно так же. Мучимый в доме Дёрферов страхом, как бы повседневная рутина не затянула его в свою пучину, Гофман очень рано выработал собственную стратегию выживания — «делать обычное необычным». Его юношеские письма, представляющие сцены из семейной жизни, обнаруживают тот отчуждающий взгляд, который превращает все происходящее в доме в некий причудливый семейный театр. Так ослабевает пресс, так можно сбросить лишний груз. Поэтизируя себя самого и окружающий тебя мир, делаешь вполне терпимым и то и другое.
С этим новым наслаждением литературной жизнью связана и другая великая тенденция той эпохи: наслаждение собственным «я». Вертер Гёте задал тон: «Я углубляюсь в себя самого и нахожу там целый мир». Гофман и его поколение восторженно поддержали такой оборот дела. Гофман писал Гиппелю: «Итак, теперь я постигаю искусство находить все в себе самом и надеюсь также со временем отыскать в себе нечто полезное для себя» (12 декабря 1794). То, что выражается здесь в доверительной переписке, Новалис открыто вынес на литературный рынок, горячо заявив о своих чрезвычайно высоких притязаниях: «Мы грезим о путешествиях через вселенную — но разве вселенная не заключается в нас самих? Мы не знаем глубин собственного духа — но туда ведет таинственный путь. В нас или нигде заключается вечность с ее мирами — и прошлое, и будущее».
Наступает эпоха великой дерзости. Саморефлексирующий и самонадеянный взгляд внутрь самого себя, как полагают, достигает центра мира. Это распространяется и на религию, и на природу, и на общество.
Религия, учил Шлейермахер[19], основана на самом субъективном из чувств, она «в чувстве и расположении к бесконечному». Откровение Священного Писания мало значит по сравнению с откровением сердца. Открыть религию «значит открыть самого себя» — и наоборот.
Субъективное «я» полно предвестий. В нем обнаруживается также и весь природный процесс, вся естественная история. Новалис писал: «Для постижения природы надо прочувствовать внутри себя всю последовательность ее возникновения». Он же: «Что такое природа? Энциклопедический, систематический указатель или план нашего духа».
Именно Кант, чопорный, мало расположенный к проявлениям энтузиазма, так много сделал, частично сам не желая того, для возвеличивания субъективного «я». Немногие основательно изучали его, и менее всего Гофман в свои молодые годы. Но так много было повсюду разговоров о том, что, согласно его учению, мир, постигаемый опытным путем, представляет собой продукт субъективных категорий. Кант укоротил универсалистские притязания разума по субъективной мерке. В эпоху, учившую с наслаждением говорить: «Я», это понималось, прежде всего, как возвышение субъекта. Огорчение Клейста, начитавшегося Канта, по поводу непознаваемости мира совершенно нетипично для той эпохи. Именно потому, что тогда открывали собственное «я». Непознаваемость «вещи в себе» мало кого тревожила. У Канта романтическое поколение нашло то, что он, как сам полагал, упразднил, а именно: возможность новой метафизики, метафизики субъективного «я». Кант учил, что мы не можем объективно познавать мир, поскольку вынуждены оставаться в пределах субъекта. Романтическое поколение перевернуло это учение: если мы познаем самих себя, то познаем и весь мир. Мы конструируем мир из форм нашего духа. Сначала Фихте, а затем и Гегель поступали именно так. Особенно успешно возвеличить субъективное «я», оказавшее наибольшее влияние на культурную жизнь своего времени, удалось Фихте. Благодаря его философии, которая, как и философия Канта, очень скоро стала ходовым товаром, слово «я» приобрело совершенно особую окраску, сопоставимую лишь с той многозначительностью, которую позднее Ницше и Фрейд придавали слову «оно».
Фихте вывел из структуры самосознания, самого себя полагающего предметом, роль мирового творца, которая приписывается субъективному «я». «Я» производит себя самого лишь в рефлексии. Следовательно, эта рефлексия и есть первое «действие», посредством которого оно полагает себя как «я», а мир — как «не-я». Современники с энтузиазмом подхватили эту строго формально и абстрактно выраженную идею: субъективное «я» свободно, оно представляет собой первый принцип и заключает в себе целый мир, оно не должно склоняться перед миром, но своим «действием» творит для себя собственный мир. Популяризированный Фихте стал главным аргументом для духа субъективизма и безграничной осуществимости. Мнимая власть субъективного делания настраивала на эйфорический лад. Сидя в кабачке неподалеку от Тюбингена, Гёльдерлин, Гегель и Шеллинг в 1795 году набрасывали проект новой мифологии, которую надлежало осуществить. Тогда подобные проекты не казались чем-то невозможным. Где эти трое собирались отыскать свою новую мифологию? Разумеется, в самих себе. Реализацией своего проекта они намеревались не более и не менее как учредить новую всеобщую идею. Все это позднее получило название «Старейшая системная программа немецкого идеализма». Та эпоха знала мало документов, до такой степени пропитанных ниспровергательским духом произвольного делания и субъективного «я».
Правда, Гофман, живший тогда в Кёнигсберге, на Юнкергассе, не возносил столь высоко собственное «я». Ему довольно и того, чтобы отыскать и сохранить в себе самом достаточно сил для обороны от «вздорных капризов деспотов», от «роя мошек» и «людей-машин»; в письме Гиппелю от 25 января 1796 года Гофман признавался: «Еще никогда мое сердце не было более восприимчивым для добра и никогда еще более высокие чувства не переполняли мою грудь… Пошлые умы не имеют и представления о высшем напряжении и называют это утомлением… Ничтожный сброд, порой окружающий меня, считает меня глупцом… а между тем я еще ни разу не метал свои перлы перед свиньями, и я чувствую, что обладаю некоторым достоинством».