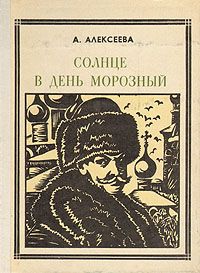Внутри у него росло раздражение.
— Ну хорошо, Борис Михайлович. Я ухожу. Когда мне прислать за портретом?
— Через три дня.
Художник проводил ее до передней, раскланялся.
И решил сразу, по свежим следам поработать над фоном. Широкой кистью и мастихином он сделал несколько энергичных мазков, однако больное плечо стало опять ныть, и он стал механически вытирать кисти, опуская их в скипидар.
В голове бились мысли о следующем заказчике, который должен скоро прийти, и вообще обо всех этих «именитых», с которыми он оказался столь роковым образом почему-то связанным. Когда-то он трепетал перед ними, с великим тщанием работая над "Государственным Советом"- Теперь по-деловому сажает их в нужные позы, командует, как Веласкес, натурщиками.
Да, Веласкес, властелин кисти… Нельзя было оторваться в музее Прадо от его инфант, карликов, от его гениального портрета семьи Филиппа. При широком, сочном мазке почти прозрачное письмо! И как смело он поставил в центре картины свою любимую маленькую инфанту, рядом карлицу, а короля и королеву изобразил лишь отраженными в зеркале…
Кустодиев так любил искусство старых мастеров, что даже при одном воспоминании о Веласкесе он «отошел» немного. Улыбнулся, вспомнив, как хороши сегодня были волосы у Таганцевой.
Ах, эта рука, почему она так болит, давит сердце… Это совсем ни к чему сегодня. Через час придет светлейший.
В дверь постучали, и появилась мать, Екатерина Прохоровна, которая недавно приехала к ним. Кустодиев почему-то с пронзительной ясностью вдруг увидел, как она постарела. Вот кого надо писать. Не Та-ганцеву, а ее! Сколько он помнит, всегда взгляд матери выражал немой вопрос: как сын, что он?
— Спасибо, милая! — Он обнял ее. Пообещал к трем часам, когда придут сестра с братом, выйти в гостиную.
Она тихо закрыла за собой дверь.
…Князь Голенищев-Кутузов сел в кресло с царственным достоинством. В отличие от Таганцевой он не был говорлив, не менял позу, зато впадал в сонливость.
И снова палитра с красками, мольберт, кисти. А где-то в глубине смутное недовольство тем, как все это похоже, как натурально…
Он писал однажды: "Если меня что привлекает, так это декоративность. Композиция и картина, написанная не натурально и грубо вещественно, а условно-красиво. Вот почему я не люблю своих вещей, в которых все это есть".
Князь и Таганцева были именно грубл естественны, похожи.
— …Превосходно, в высшей степени натурально, — сказал князь по окончании сеанса. — Весьма и весьма. Не то, что у этих… импрессионистов. Видели днями во дворце Моне, Ван-Гога, Матисса… и еще кого-то, запамятовал. Как вы смотрите на них, Борис Михайлович? Не правда ли, это ужасно? Мазня, беспорядок… Я говорил с его величеством — он думает так же.
Художник сдержанно ответил:
— Мне лично работы импрессионистов кажутся очень интересными. Они расширили возможности искусства.
— Но они исказили мир жизни, — настаивал князь, — у них это все так зыбко…
Об импрессионистах Кустодиеву пришлось вести разговоры и с царем во время сеансов для скульптуры в мраморе. И потом, когда делал портрет Николая. В одном из писем он писал:
"Ездил в Царское 12 раз; был чрезвычайно милостиво принят, даже до удивления — может быть, у них теперь это в моде — «обласкивать», как раньше «облаивали». Много беседовали — конечно, не о политике (чего очень боялись мои заказчики), а так, по искусству больше, но просветить его мне не удалось — безнадежен, увы… Враг новшества, и импрессионизм смешивает с революцией: "импрессионизм и я — это две вещи несовместимые", — его фраза".
Ох уж это потребительское отношение к искусству, как он от этого устал!
Недавно его пригласили вести занятия в мастерской художницы Е. С. Зарудной-Кавос. Он сначала согласился. Но эта знатная дама ставила ему условия, с помощью его имени делала рекламу, больше думала о выгоде своего предприятия, чем об искусстве. Все это не нравилось Борису Михайловичу, и в конце концов он написал резкое письмо, которым порывал всякие отношения с мастерской Зарудной-Кавос:
"Милостивая государыня,
Ваши последние письма еще раз подтвердили мне невозможность вести с Вами общее дело.
Вы не поняли или не хотели понять своей роли заведующей мастерской и создали салон для приятного времяпрепровождения, а не для серьезной работы, о чем я неоднократно предупреждал Вас…
Настоящим письмом я прекращаю трудную переписку, так как не имею времени на прочтение Ваших писем и ответы на них".
Не любит он таких резких слов, но, когда стоит вопрос об искусстве, о порядочности и дело заходит столь далеко, — приходится.
…"Светлейший" ушел, и Борис Михайлович поспешил в гостиную.
Там за столом уже сидели Саша с мужем, мама, Михаил.
Обед в семье Кустодиевых всегда проходил весело. Вот и сегодня Михаил подшучивал над Василием Кастальским. Саша весело смеялась. А после обеда Екатерина Прохоровна пробежала своими маленькими, уже сморщенными руками по клавишам пианино, и Борис Михайлович запел приятным тенором:
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые…
Остальные подпевали. Все было как в старые времена в Астрахани. "Клан Кустодиевых" был жив! За этим негромким пением, за простой и печальной мелодией чувствовалась общность людей, скрепленных не просто родственными чувствами, но чем-то гораздо большим.
Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица, давно позабытые…
После обеда оба брата пошли в мастерскую художника. "Попозируй мне, попросил Борис Михайлович, — хочется закончить портрет князя, а одежду и кресло можно писать и без него". В искусстве он был «запойный» — дорожил первым, непосредственным впечатлением, верил, что только быстрая работа дает жизнь картине. А если ее «заездить», тогда прощай! Это было и с любимой моделью, и в таком случае, как сегодня.
Какое-то время они сидели друг против друга. Михаил насвистывал. Кустодиев молча работал, бросая взгляды на складки, фиксируя свет на плечах, на рукавах, на груди.
Вдруг Борис Михайлович отложил кисть, вытер руки и стал говорить тихо, словно для себя:
— Михаил, я дошел в живописи до стенки. Все это ни к чему, — он оглядел висевшие картины. — Старье. Это было, было, было… Витте — как у Репина, Матэ — как у Серова, Нотгафт — тоже.
Михаил знал эти приступы неверия и обычно умел успокоить брата.
— Что ты говоришь? Побойся бога. Именно теперь, когда ты достиг такого большого успеха. Репин считает твоих «Монахинь» лучшей картиной сезона. Хвалит Серов! Уходит в отставку из училища и предлагает тебя на свое место.