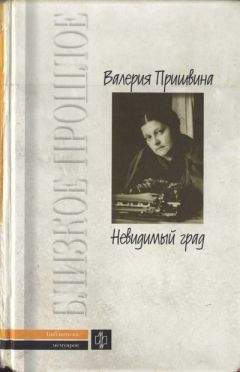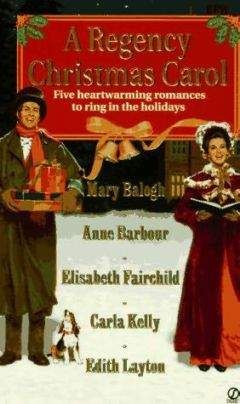Дверь отворяется. Наталье велят приготовиться. Ее берут к следователю. С тех самых пор, как ее арестовали, она очень хочет этого. Каждый всегда надеется получить какие-то сведения, что-то выудить из перекрестного допроса, что-нибудь о местонахождении мужа, о действиях родителей и друзей, о судьбе детей. Ничего это никогда до вас не доходит, но вы всегда надеетесь, что это может случиться. Наталья, как и все, страстно ждала перекрестного допроса, чтобы узнать, наконец, что значит этот арест, и сейчас она была просто больна от тяжелых предчувствий. Она инстинктивно приглаживает волосы, накидывает на плечи платок и идет к двери, бледная, как смерть, но невозмутимая и прямая, как прекрасная королева из волшебной сказки. Наши сердца были с ней.
Сумерки сгущаются. Окно закрыто. Мы идем в умывальню. Мы возвращаемся. Наталья все еще на допросе. Екатерина быстро подходит к окну и тайком крестит пространство, потом ложится молиться. Проходят часы. Много часов. Соня и Зоя засыпают, мы с Екатериной бодрствуем.
Наконец дверь отпирается и запирается, как только Наталья переступает порог. Лицо ее бледно и искажено. Глаза огромные, бездонные. Очень прямо, словно во сне, она подошла к столу, налила холодного чаю из чайника в чашку. Она долго пьет с полузакрытыми глазами, как будто это вино забвения. Когда она медленно двинулась к кровати, наши глаза встретились. Она закрыла свои и содрогнулась.
— Невозможно, — выдохнула она, — о, невозможно.
— Совершенно невозможно, — сказала я, как могла мягко. — Вы никогда не смогли бы.
— Но мама! Не ее ли покой я отбрасываю, вдруг тот покой, который я самодовольно извлекаю из честности, сверх возможностей ее физического существования, душевного покоя, счастья?
— Счастья?
— Она бы никогда не узнала.
— Может ли кто-нибудь из нас или наших не знать, что происходит? Мы больше никогда не сможем думать и судить как другие — как будто бы мы не знали.
— Да, верно.
— Постарайтесь заснуть, Наташа. Христос с вами.
На следующее утро, рано, когда мы еще пьем чай, Наталью берут на допрос, и она не возвращается до обеда. Позже она падает на кровать, совершенно измученная и душой и телом. Запах пищи вызывает у нее тошноту. Я заставляю ее съесть кусочек белого хлеба и запить глотком. Она то и дело неудержимо вздрагивает с ног до головы. Руки ее горячие и влажные. Силы ее на пределе. Ее милое лицо осунулось, тело ссохлось. Она стала зрительно тоньше и приобрела не поддающийся описанию остановившийся взгляд обитателей камеры.
Едва мы закончили есть, за ней снова пришли. Надзиратель выглядел расстроенным. Мы знали, что Наташа нравится ему. Каждая из нас выделяла кого-то из надзирателей, и у них были „фавориты“ среди нас. Мы, казалось, знали друг друга очень давно, хотя, конечно, несколько односторонне.
Потрясенные, полные ужаса от непрекращающихся мучений Наташи, мы даже не могли ни читать, ни говорить в течение всех часов, пока ее не было. Ее приводят к обеду, до которого она не дотрагивается, потом снова уводят. Июньские ночи коротки в России. Сумерки почти сходятся с рассветом где-то около полуночи. Свет зажигается в камере теперь очень ненадолго, и глаза болят меньше, но становится еще труднее определить время и течение событий во времени.
Когда Наташа снова возвращается в камеру, она пугающе бледна и худа, с огромными темными кругами под глазами, которые выглядят как застывший крик боли. Она быстро раздевается, ложится и отворачивается к стене без единого слова. Екатерина и я безмолвно умоляем друг друга не спать. Эту девочку ведет к ее вершине, мы должны бодрствовать вместе с ней.
Был час то ли поздней ночи, то ли самого раннего утра, когда даже здесь все ненадолго смягчается. Не открывается ежеминутно глазок, видно, даже надзиратели чувствуют некоторую лень.
Наташа широко открывает глаза, пристально взглядывает на глазок, слушает, потом опускает ноги на пол и — нагибается ко мне.
— Должна я? — выдыхает она. — Скажите мне только одно: должна я?
— Нет, вы не должны.
— Мама умрет в страдании.
— Может быть, но к этому все равно придет, так или иначе. Однажды сделав это, уже невозможно переделать, передумать. И потом в момент вашего падения или даже колебания — где была бы она? Кроме того… сам Христос заботится о совершенно беспомощных в этой стране. Мы знаем и не можем сомневаться, Наташа. Неужели вы падете, предав ваше наследие?
Она закрывает глаза, губы ее слабо двигаются.
— Только мама, — вздыхает она. — Василий поймет, мужчина может выдерживать такое и понимать. Но мама! Это мучение!
Что-то тронулось после этого разговора. Через минуту Наташа уже лежит спокойно, безвольно, с закрытыми глазами. Глазок мягко открывается. Большой серый глаз оглядывает комнату. Крак. Глазок закрывается. Надзиратель уходит.
Утром они дают нам поспать довольно долго. Когда мы пьем чай, Наташа выглядит отсутствующей, но спокойной и непреклонной, твердой. Ее взяли на допрос перед обедом, но ненадолго. Она возвращается уверенным шагом победителя, готового принять все самые страшные последствия своей духовной победы.
Днем Наташа и Зоя поют дуэт за дуэтом. Их голоса звучат вместе очень хорошо. Камера в приподнятом настроении: Наташа боролась и победила.
Вечером дверь открывается, и Зою вызывают на допрос. Но надзиратель называет ее совершенно другим именем, которое мы никогда не слышали! Провокаторы имеют два или больше имен, мы это знаем, но Зоя! Прежде чем мы пришли в себя, снова входит надзиратель и просит нас собрать ее вещи. На этот раз он называет ее знакомым именем. Уходит. Это значит, что Зоя уходит. Мы никогда снова не увидим ее, не услышим ее песен, никогда не узнаем, почему у нее два имени. Пустота, которая останется после Зои, ничем не заполнится. Была ли она провокатором? Не сказал ли кто-нибудь из нас лишнее? Конечно, каждый. Но… она была такая милая, и провокатор она или нет, нам было очень грустно.
На следующий день у нас сменились надзиратели. Смена их, совпавшая с исчезновением Зои, заставила нас почувствовать себя совсем одиноко и еще более сблизила. На следующий день снова незнакомые надзиратели. И на следующий.
Наташа, лежа на кровати, тихо запела Зоино: „Даже ветер не может знать, даже нежный падающий снег…“
— Девочка, — говорит Екатерина, — никто не может знать, кроме тех, кто понимает. Как прекрасна жизнь во всей ее сложности и полноте для того, кто понимает!
Мы теперь меньше читаем, но часто три женщины присаживаются на краешек моей кровати, и мы говорим. О святых Екатерины, о будущем России, о Наташиной работе в Москве, о детях Сони и ее муже, о моей жизни в Азии, Африке, Европе… Англии! <…>