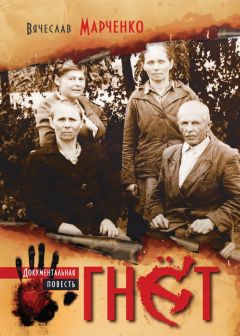После этих слов какая-то пустота вселилась в мое сердце — обнаженная откровенность бабы Кили буквально шокировала меня. Но даже воспитанный в духе патриотизма и непоколебимой преданности Советской власти, я молча проглотил ее слова: я и до этого слышал от людей старшего поколения о том, что люди, доведенные Советской властью до состояния жгучей ненависти к ней, готовы были поддержать кого угодно — хоть немцев, хоть румын, — лишь бы те помогли им избавиться от ненавистного Советского режима. И если бы не жестокость, которую немцы стали проявлять тогда на оккупированных территориях, — говорили они, — то не известно еще, как бы тогда война эта закончилась. Но как же мне было тогда трудно слушать бабу Килю об этом…
— …До конца 1943 года, — вновь продолжала свой рассказ баба Киля, — мы жили в отрыве от всего, что творилось за пределами нашего села. Работали,… Аня с Ниной уже девушками становились, и мы все больше за них боялись, как бы чего не случилось. А где-то с конца 1943 года в нашем селе на постой немецкие солдаты и офицеры обустраиваться стали.
Вон в той большой комнате, — баба Киля показала рукой, — тоже жили солдаты: один поляк и двое немцев. Питались они отдельно — в своей столовой, и даже нам иногда кое-какие продукты приносили. Они нам говорили, что им война не нужна, что Гитлер и Сталин — это «два сапога — пара», и что было бы лучше, если бы они сами друг другу горла перегрызли, без солдат.
В целом те солдаты обращались с нами тогда нормально: зла мы от них не видели — все, что немцам нужно было, они брали в то время в колхозе. Это уже когда они отсюда отступать начали, они стали вести себя по-другому,… они могли зайти к любому во двор и забрать свинью или корову.
Помню, как-то вечером, уже перед самым уходом немцев из села, наши коровы с пастбища домой по улице возвращались, и один из немцев, что стояли тогда не далеко от нашей хаты, к Нине подошел, и со словами: «гут, корова», вырвал из ее рук веревку с привязанной к ней нашей коровой. У мамки твоей от беспомощности и обиды слезы из глаз тогда брызнули, а корова наша — мы ее тоже Миланкой назвали, словно чувствуя, что перед ней враг ее, так подцепила рогами того немца за задницу, что у него даже штаны порвались, при чем — очень сильно порвались. Хорошо, что тот немец тогда без оружия был — наверняка, подстрелил бы он обидчицу свою, а тогда, под смех своих сослуживцев, он от злости лишь кулаком на Нину замахнулся, что-то по-своему ей грозно лопоча,… но не ударил. А потом он вырвал из рук веревку с привязанной коровой у другой женщины — Пелагеи Телеш, и увел ее корову с собой. Бедная женщина, возмущенно покричала ему в след, да и все на этом…
В те годы, внучек, остаться без коровы было смерти подобно, а у женщины той муж тоже тогда на фронте погиб, и она с детьми своими, без коровы, еле выжила во время голодовки в 1947 году.
Тогда же, когда немцы отступать начали, один из тех немцев, что жил у нас в хате, уходя зачем-то и нашу собаку Волчка с собой увел, а румыны, сволочи, не стеснялись даже женщинам в лицо кулаком стукнуть — мне тоже от них как-то раз досталось.
— Вам?! — возмущенно удивился я, — за что?!
— А как-то раз я с Аней и Ниной шли по улице, а нам на встречу румынские солдаты шли, и они на девчат моих наглыми глазами своими пялиться стали. Я думала, что они по-украински не понимают и как бы, между прочим, сказала: «Щоб вам повылазыло, падлюкы». Ну и один из них подошел ко мне и, не раздумывая, прямо в лицо мне кулаком,… хорошо еще, что они девчат моих тогда не увели…
— Жили мы в те годы в совершенном неведении, что вокруг нас творится, — после непродолжительного молчания, вновь продолжила свой рассказ баба Киля, — что на фронтах происходит — мы тоже толком не знали, и о смертях наших близких мы тоже пока не ведали — похоронки к нам не доходили. Все наши слезы брызнули разом, когда наша армия освободила нас.
Весной 1944 года наши войска уже напротив нашего села стояли: в Новой Одессе. Немцы, пытаясь закрепиться на нашем берегу, стали на рытье окопов нас гонять, как на работу. В конце недели они за это людям зарплату марками платили, иногда вместо денег они вещами расплачивались — выстроят нас, помню, в очередь возле огромных баулов с одеждой всякой и каждому что-нибудь дают. Мамке твоей они платье крепдешиновое дали, Анюте — кофту шерстяную, а деду Ване ботинки новые выдали.
Пригоняли сюда откуда-то и пленных наших солдат.
Работая, мы разбивались на маленькие бригады, по три — четыре человека, и старались, чтобы в такой бригадке все близкие люди были вместе. План на человека при рытье противотанкового рва был такой: три метра в ширину, три метра в длину и метра два в глубину. Рыли окопы мы целый день, а сверху, вдоль окопов, постоянно немцы ходили с автоматами, собаками и длинными палками в руках: кто плохо работал, того они тут же могли этой палкой по голове стукнуть, а могли и избить человека до полусмерти,… наглые они были, сволочи!
Помню, парнишку совсем молоденького — Ваней его звали, а фамилию я его не помню — не наш он был — не ткачевский. Жил он на другой улице в доме учителя нашего — Гончаренко Алексея Яковлевича, он его родственником был. Так вот он медленно работал тогда, и немцы, заприметив это, вытащили его из ямы и прямо там, на наших глазах, жестоко избили его. На следующий день, когда нас опять пригнали на работу, его тут же вывели из строя и, видимо, в назидание другим, вновь чуть ли не до самой смерти его избили. Он потом там, в пыли, до самого вечера лежал, до тех пор, пока нас по домам не отпустили, и мы его домой не отнесли. После этого он уже не мог ходить на работу — он дома чуть ли не при смерти лежал.
Анечка наша после работы ходила к нему и ухаживала за ним — его хата прямо напротив нашей стояла, со стороны огорода, у них тогда даже любовные чувства возникли,… красивенький был этот мальчик.
Когда наши войска в село пришли, его тоже на фронт отправили, и он оттуда еще некоторое время Анечке письма писал и даже фотографию свою прислал — на груди у него тогда уже орден Красной звезды был. А где-то перед Новым, 1945 годом, он перестал писать письма, и Анечка от жены погибшего в той войне, Алексея Яковлевича узнала, что на того Ваню тоже похоронка была.
Анечка очень сильно плакала тогда, и больше она никого полюбить не смогла — так она одна и жила, почти до самой смерти.
Весной 1944 года, наши войска уже к форсированию реки, готовились, все чаще над нашим селом стали наши и немецкие самолеты летать.
А буквально перед самым наступлением наших войск — где-то в середине марта, наш староста Суглоб Николай Петрович, вместе с полицаем Васей Вакарем все наши хаты обошли и сказали нам, чтобы мы покинули село, что находиться в селе будет очень опасно, что оно будет обстреливаться и с того берега — со стороны красных, и с этой стороны — тоже.