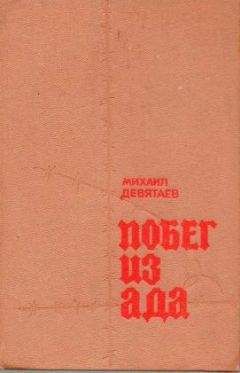— Хенде хох, ферфлюхтес!
В следующее мгновение мне скрутили назад руки, а в рот сунули тряпку. В глаза ударил резкий свет фонарика. Меня обыскали и, не найдя ничего подозрительного, поставили на ноги.
— Форвертс[16] — услышал я приглушенный голос. Толкнули в спину и куда-то повели, приставив к лопатке ствол автомата или карабина.
Я вновь у немцев. Значит, всему конец. Смерть!
Шли долго. Двое здоровил, ведущих меня, не проронили ни слова. Впереди показалось какое-то строение. Меня ввели в узкий полутемный коридор, затем открыли обитую черным дерматином дверь, и я оказался в ярко освещенной комнате. Только и успел заметить двухтумбовый стол и большой портрет Гитлера на стене: один из конвоиров так толкнул меня, что я кубарем покатился по полу. Эсэсовцы сидели на стульях и деревянных лавках. У стены стояла пирамида с оружием, бачок с водой. Окна были плотно завешаны черными бархатными гардинами. Видно, здесь придерживались строгой светомаскировки. Но вот появился офицер, и один из моих конвоиров отрапортовал, что на посту номер двадцать семь задержан партизанский лазутчик, который пытался незаметно подползти к «объекту икс».
Офицер молча выслушал рапорт, затем распорядился объявить тревогу и разбудить начальство. Изо рта у меня вынули кляп — суконную пилотку одного из моих конвоиров, на руки надели наручники и повели.
Начальство находилось в небольшом домике поблизости. В нем было всего две комнаты, одна из которых, очевидно, служила спальней, вторая — кабинетом, куда ввели меня. На окнах и дверях висели такие же черные шторы. Шкаф, письменный стол с телефоном, несколько дубовых табуреток, на стенах портреты Гитлера и Геринга, карты Германии и Польши и еще что-то, закрытое ширмочкой. За столом сидел молодой обер-штурмбаннфюрер[17], а по обе стороны стояли два пожилых офицера.
Молодой с любопытством и даже весело смотрел на меня. Приветливо улыбнувшись, спросил:
— Партизан?
Я отрицательно покачал головой.
— Ну, это мы быстро выясним, — пообещал он все так же весело. — По-немецки говоришь?
— Никс ферштейн, — ответил я.
— Поляк?
— Украинец.
— По-польски понимаешь?
— Говорите со мной по-русски.
— Ничего, мы найдем общий язык, ты станешь понимать даже по-китайски. Раздеть догола и тщательно осмотреть одежду, — резко скомандовал обер-штурмбаннфюрер.
Мгновенно меня раздели, распороли пиджак и штаны, ощупали каждый рубчик, ничего, конечно, не найдя.
Начался допрос. Оберштурмбаннфюрер задавал вопросы, а один из офицеров, низенький, приземистый, с рыжими щетинистыми усами, переводил. Я понимал, что наступает решительный момент. Как ни странно, но мною вдруг овладело удивительное спокойствие. Очевидно, это природный защитный рефлекс, при котором больше шансов отстоять свою жизнь.
Немцы внимательно выслушали рассказ с моей неизменной версией о сиротстве, после чего оберштурмбаннфюрер предупредил:
— Сейчас мы будем тебя бить до тех пор, пока ты не скажешь правду, как очутился здесь, с какой целью и кто тебя послал.
— Я сказал правду, истинную правду, за что же меня бить? — ответил я и заплакал.
Один из эсэсовцев уже снимал с себя ремень. Второй в мгновение ока повалил меня на табуретку, зажав голову между колен, и началась экзекуция. Я кричал, задыхался от боли, а палачи усердствовали, полосуя мое истощенное тело. Я терял сознание, меня отливали водой, допрашивали и снова истязали.
Во время допроса один за другим заходили офицеры и докладывали, что на объекте ничего подозрительного не замечено.
Наконец пытки прекратились. Оберштурмбаннфюрер снял трубку и попросил срочно связать его с неким оберфюрером[18] Остером. Минут через десять резко зазвонил телефон, офицер почтительно вытянулся и начал докладывать: «Задержанный — советский мальчишка лет пятнадцати. Утверждает, что удрал из эшелона, в котором его везли в Германию, и бродяжничал. Ночью заблудился в лесу и случайно наткнулся на нас. Кажется, нет оснований не верить его словам, так как допрашивали по-настоящему».
Я делал, как и прежде, вид, что не понимаю, но внимательно прислушивался к каждому слову. Надежда на жизнь, совсем было угасшая снова затеплилась в моем сердце.
Закончив разговор, офицер попросил соединить его с краковским гестапо.
— Спихнем живчика на них. Это их хлеб, вот пусть и занимаются. Наше дело — охранять.
Оберштурмбаннфюрер приказал принести мне пару солдатского белья, а мои вещи связать, запаковать, они, мол, еще понадобятся в гестапо. «И пусть этот идиот приберет здесь», — один из офицеров брезгливо показал на лужицу крови на полу.
Наручники сняли. Я с трудом надел белье, опустился на колени и стал жадно пить воду из помойного ведра; напившись, принялся мыть пол. И эта простая работа была для меня настоящей пыткой. Потом на меня снова надели наручники, отвели в караульное помещение и приказали лечь на пол. Два автоматчика не спускали с меня глаз. Уснуть никак не удавалось — болело избитое тело.
Утром меня снова привели туда, где допрашивали накануне. Кроме офицеров, которых я уже видел, здесь были какие-то штатские. Одному из них я слово в слово повторил свой рассказ. Ответы запротоколировали, потом заполнили бланк расписки о том, что «работники краковского гестапо получили от начальника «объекта икс» оберштурмбаннфюрера Гепхарда задержанного русского парня лет 14-16-ти, назвавшегося Иваном Петровым…»
Мне поменяли наручники, старые вернув владельцам. У крыльца уже стояли два черных легковых автомобиля со шторками на боковых и задних стеклах и несколько мотоциклов с колясками. Один из гестаповцев завязал мне глаза и уши. Делалось это для того, чтобы я случайно не увидел объекта и местности, по которой меня повезут. После этого меня посадили в машину. Загудели моторы, затрещали мотоциклы, и машины двинулись в путь.
Вначале ехали по бездорожью. Даже амортизаторы и мягкое сиденье не спасали от бешеной тряски, причинявшей нестерпимую боль. Наконец машина выехала на асфальт. Уже не так горело избитое тело, но началась новая пытка: стальные «браслеты» все сильнее впивались в кисти рук.
Гестаповские наручники отличались от прочих не только большим весом, но и тем, что имели внутри какое-то каверзное приспособление: при малейшей попытке шевельнуть онемевшими руками они автоматически сжимались еще сильнее. Руки вскоре окончательно онемели.
Наконец машина остановилась. Меня вытащили, взяли под руки и куда-то повели. В нос ударил специфический запах тюрьмы. Сквозь повязку доносились резкие, как выстрелы, команды, топот кованых сапог, бряцание ключей.