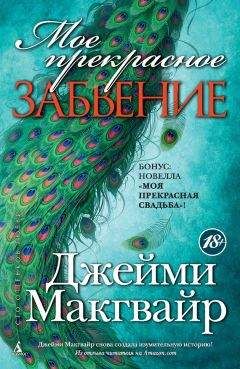– Почему же ты молчал, раз это так серьезно? – испуганно пробормотал Пилюля. – Кто бы мог подумать… такой безобидный прыщик…
Он послал меня к врачу. Тот обработал рану, но больше делать ничего не стал. Я промучился две недели.
Вероятно, в каждой тюрьме есть охранник по кличке «Дурак». В Антверпене это прозвище получил ворчливый фельдфебель. Я слышал, что в Эстервегене тоже был свой Дурак.
Дураком в Байрете прозвали высокого, худого, вечно чем-нибудь недовольного охранника с холодным взглядом и злым лицом восточного типа.
Возможно, он умел разговаривать спокойно, но я никогда этого не слышал – он постоянно рычал. Запас слов, с которыми он обращался к заключенным, был крайне ограничен: «бешеная собака», «вонючий заяц», «мерзавец». Его излюбленным выражением было: «Ты и мизинца моего не стоишь».
Он верховодил в сапожной мастерской. Здесь царила жесткая дисциплина. Стоило кому-нибудь оторвать глаза от работы, как он начинал кричать: «Где работа? Вот работа!» И стучал кулаком по столу, чтобы показать, что работу надо искать не в воздухе, а на верстаках.
Из всех «зеленых» он, пожалуй, был единственным, кто бил заключенных. В нем так и кипела ненависть.
Рассказывали, что оба его сына погибли в России, а жена умерла от болезни, которую можно было вылечить при надлежащем уходе и лечении. Но она была уже в том возрасте, когда не рожают детей, а значит, не нужна великой Германии. Врачи, видимо, решили, что лекарства можно с большей пользой употребить для солдат на фронте и для чистопородных девиц в домах деторождения. Однако ненависть этого типа обернулась не против нацизма, а против его жертв.
О Дураке рассказывали также, что за пределами тюрьмы он становился совсем другим. Охранники жили в маленьких домиках недалеко от тюрьмы. Говорили, что Дурак иногда брал кое-кого из заключенных с собой и заставлял работать в своем саду. Он сытно кормил и поил их, давал сигареты.
С первого дня моей работы в сапожной мастерской я и Дурак стали заклятыми врагами.
До меня гвозди из ботинок вытаскивал другой заключенный. Некто Масей или Масюре из Брюсселя. Его одного отправили из Байрета. Некоторые считали, что его приговорили к смерти и отправили в Вольфенбюттель для расправы. Я знал о нем только понаслышке. Он, видимо, был крепким парнем, из тех, что вызывающе смеются, когда их бьют.
Масей-Масюре тоже прилично знал немецкий, и до меня газеты получал он.
Дурак не выносил этого парня и постоянно следил за ним. Его взгляд по привычке всегда был прикован к тому месту за верстаком, где сидел Масей-Масюре, и когда я занял его, то ненависть Дурака автоматически переключилась на меня.
В мастерской были две уборные. Они находились прямо за моей спиной, возле двери, которая вела в коридор к «чехам». В уборных были высокие двери, которые, правда, не доходили до потолка. Во всех тюрьмах справлять нужду приходилось на людях. Кроме Байрета. Тут уборные даже запирались изнутри. Дурак сидел обычно в другом конце мастерской. Утром, как только я получал газету, я сразу же засовывал ее под куртку, быстро вставал, исчезал в одной из кабин и читал, потом рвал газету на клочки, бросал в унитаз и спускал воду.
На все это уходило время. Дурак начинал бесноваться. Я напоминал ему Масея-Масюре – тот тоже ежедневно запирался в уборной. Глаза Дурака загорались. Он смотрел на часы и на дверь кабины. Иной раз он не мог сдержать своей ярости, подбегал к двери, стучал в нее ногами и кричал, распаляясь с каждой минутой, так как не мог достать меня.
– Вонючий пес! – кричал он срывающимся от бешенства голосом. – Только одно и умеешь – сидеть в сортире! Работать не хочешь. Я доберусь до тебя, паршивая собака.
Иногда он давал выход своей злобе – брал ведро с водой, выплескивал ее через дверь в уборную – и тогда сразу успокаивался. Когда я, мокрый как мышь, выходил из туалета, он принимался громко, злорадно хохотать. И заключенные, чтобы не злить его, смеялись вместе с ним. Он принимал их смех за одобрение и несколько дней не придирался ко мне.
Однажды он спросил меня с явным любопытством:
– И почему ты всегда так долго сидишь там?
Я вспомнил, что в таких случаях говорил Пилюле, и ответил:
– Наверное, от слишком сытной еды, господин вахмистр.
Он покачал головой, и я удивился, заметив в его глазах что-то похожее на сочувствие.
– У тебя, видно, плохой желудок?
– Вполне возможно, господин вахмистр,- живо отозвался я.
– Мне кажется, что это из-за зубов,- подумав, произнес Дурак. Он как-то странно засмеялся и со зловещей ухмылкой сказал: – Сейчас пойдешь к зубному врачу. Желудку сразу станет легче, если тебе выдернут зуб.
Я еще ни разу не был у зубного врача, но много о нем слышал.
Заключенные испытывали животный страх перед дантистом. У меня, видимо, было крайне удрученное лицо, ибо Дурак торжествовал победу.
– Да, да! – ржал он. – Я пойду к зубному врачу вместе с тобой. Я сам отведу тебя туда.
Но он не пошел, а в приемный день послал меня вместе с другими несчастными дергать зубы. Об удалении зубов рассказывали самые невероятные истории. Ну, если тебя мучила зубная боль, то еще куда ни шло. Но у меня не болели зубы, и я еще ни разу в жизни не удалил ни одного. Процессия направилась в небольшую комнату, и зловредный Дурак позаботился о том, чтобы я шел последним. Войдя в комнату, мы выстроились в длинную очередь. Нас оказалось человек двадцать. Первый занял место в кресле и вцепился руками в подлокотники. Зубной врач был из «чехов». Двухметрового роста, с широкой грудью и огромными волосатыми руками. На свободе он определенно был либо боксером, либо вышибалой, но уж никак не зубным врачом.
«Чех» не терял времени даром. Его движения напоминали мне старые картинки – так в старину удаляли зубы на ярмарке. Он хватал щипцы, широким размашистым жестом фокусника показывал их нам, затем упирался в пол ногами, и щипцы исчезали во рту пациента. «Врач» зажимал зуб щипцами и дергал на себя, а затем победоносно демонстрировал зажатый в щипцах окровавленный зуб и довольно улыбался.
Об анестезии не было и речи. Пациент вопил как резаный, сплевывая сгустки крови.
Пилюля стоял рядом. Он с интересом смотрел на открытый рот и щипцы. После окончания операции он подгонял пациента: «А ну, быстрее на работу! Держи аспирин. Следующий!»
Подошла моя очередь. Передо мной прошли девятнадцать человек, и я наблюдал, как они один за другим садились в кресло, открывали рот, указывали на больной зуб и вцеплялись в подлокотники. «Дантист» ухмылялся. После каждого вырванного зуба он все больше становился похож на мясника. Он не пытался отодвинуться, когда брызги крови попадали на него. Возможно, он считал, что кровь входит в программу представления. Как только щипцы обхватывали зуб, бедняга в кресле начинал орать. Из широко открытого рта несся лишь один звук: «А-а-а-а-а!» Это «А-а-а-а-а!» скоро перерастало в животный гортанный рев. Тело пациента содрогалось от безжалостных рывков «дантиста».