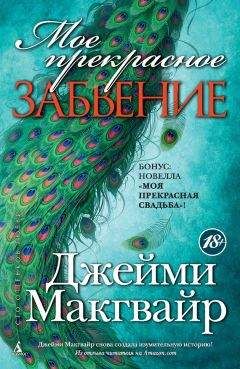По рецепту Франса ван Дюлкена мы делали также нюхательный табак, которым я лечил простуду и насморк. Для него использовались плоды каштана. Мы их тоже сушили на трубе, а потом растирали в мелкий порошок. Понюхав такого зелья, человек начинал чихать так, что стены камеры гудели.
Листьев и плодов каштана мы могли собирать сколько влезет. Ни один из охранников не обращал на это внимания. Они считали, наверное, что мы едим эту пакость.
Раздобыть еду было труднее. Окна кухни выходили на улицу. Они были открыты и зимой и летом, и запахи пищи дразнили нас. Перед кухней всегда стояла повозка с капустными листьями. Иной раз удавалось стянуть такой лист и спрятать его под куртку, а потом мы по-братски делили его в камере. Но шансов на успех почти не было. Как только добыча оказывалась в руке, подбегал охранник и бил заключенного до тех пор, пока лист не падал на землю. Поэтому мы совали трофейный лист сразу в рот. За это тоже били, но тут хоть что-то перепадало.
– Вот вам, вегетарианцы! – произносил Дурак, сопровождая свои слова затрещинами.
Вскоре француза увели от нас, а вместо него в камере появился Иозеф Бонвуасин из Лейка, робкий провинциальный парень.
Таким образом я оказался в компании с двумя «странными» людьми. Наверное, тюрьма всех делает немного странными, но странности замечаешь только у других, у себя же самого их не видишь. Прежде я всегда сразу съедал свою порцию. Но общение с Франсом ван Дюлкеном и Иозефом Бонвуасином научило меня терпению. Франс ван Дюлкен ел страшно медленно, и это было одной из причин того, что никто не хотел сидеть вместе с ним в камере. Когда ты уже съел свой хлеб, невыносимо смотреть на то, как он еще полчаса продолжает жевать.
С появлением Иозефа Бонвуасина мои терзания стали еще мучительнее. Если Франс ван Дюлкен страдал «комплексом жевания», то Иозеф – комплексом набожности.
Иозеф Бонвуасин молился перед куском хлеба утром, перед обеденным супом и перед куском хлеба вечером. Это тянулось бесконечно. Он клал перед собой кусок хлеба или ставил миску супа и молился. Руки молитвенно сложены, губы шевелятся, глаза подняты вверх или опущены долу. Иногда он вскидывал голову, видимо, чтобы убедиться, что бог его слышит. А потом снова смотрел на еду. Мы же смотрели на него, переводили взгляд со своей порции на его и ждали, когда он кончит. Сначала мы пытались есть, не дожидаясь его, но это было мучительно. Голод кажется еще сильнее, когда видишь, как едят другие.
После мук, связанных с ожиданием, пока Йозеф закончит свой религиозный ритуал, нам надлежало приспособиться к ритму Франса – к его манере еды. Сначала он резал свой хлеб на множество крошечных кусочков. Он делал это медленно и тщательно, стараясь, чтобы все кусочки были совершенно одинаковыми. Он вырезал ровные-ровные кубики. После этого он клал их один за другим в рот, с большими паузами, и начинал жевать. Поразительно, как долго он мог жевать такой крошечный кубик! Когда же наконец Франс проглатывал кусочек, он похлопывал себя по животу и приступал к следующему кубику.
Бонвуасин ждал. Он ждал, когда Франс возьмет свой последний кусочек. Тогда он быстро съедал свою порцию. Я поступал иначе. Я делил свой хлеб на четыре части. Первый кусок я съедал, когда Франс приступал к еде. Второй кусок я отправлял в рот, когда он съедал четвертую часть своих кубиков, и так далее.
После еды мы обычно разговаривали о том, что нас ждет в будущем. Мы считали, что нам никогда больше не придется жаловаться на еду. Мы будем довольствоваться самой простой пищей. Супом и хлебом. Только чтобы было много хлеба. Однако это не мешало нам продолжать выдумывать самые замысловатые блюда.
Через некоторое время Йозефа Бонвуасина перевели от нас, и я остался один с Франсом. Это была странная дружба. Франс был воинствующим протестантом и никак не мог примириться с моим так называемым безбожием. Он молился так же много, как и Йозеф Бонвуасин, но к счастью, не перед едой. Он молился вслух. И каждый раз он долго молился за меня. Я выходил из себя. Франс не умел шутить. Говорил он очень медленно, словно обдумывая каждое слово, и очень торжественно. Он часто рассказывал о своем отце. Рассказывал, как о живом человеке, хотя я знал, что его отец давно умер. Я тоже рассказывал о своем старике. Франс вспоминал о своей девушке Ханни, а я – о своей невесте. Когда мы узнали все друг о друге, я попросил одного заключенного из сапожной мастерской вырезать из кожи фигурки – так у нас в камере появились примитивные шахматы. В шахматах я был гораздо сильнее его. Кроме того, я очень старался выиграть, он же играл просто ради развлечения. Ему казалось скучным играть впустую. Тогда мы решили расплачиваться продуктами… после войны.
Мы радовались, что лето кончилось. Летние вечера в Байрете действовали нам на нервы. Тюрьма находилась сравнительно далеко от города. Через зарешеченные окна нам были видны мирные дома, выкрашенные в яркие цвета. Ни одной воздушной тревоги. Никаких признаков волнения или страха у людей на улицах. Казалось, никакой войны нет и в помине. В вечерней тишине слышались звуки популярной музыки, передаваемой по радио, раздавались беззаботные голоса игравших мальчишек и девчонок. Каждый вечер мы слышали, как нежный детский голосок звал «мутти» – мамочку. И хотя мы считали немецкий самым варварским и грубым языком из всех существующих, ни в одном из них слово «мамочка» не звучало так трогательно, как в немецком. В летние вечера мы тосковали по дому. Они тянулись бесконечно долго, пока огненно-красный диск солнца не скрывался за гребнями холмов. В такие вечера мы обычно молчали. Мы мечтали о доме.
В такие вечера Франс был неподходящим соседом. Мне нужен был собеседник, с которым можно было пошутить, рассказать грубоватый анекдот о мофах и фюрере. Или поделиться планами страшной мести.
В конце лета работа в сапожной мастерской остановилась. Странно – ведь убитых немцев становилось все больше, и на полях сражений, наверное, оставалось больше ботинок. Но, очевидно, немцы теперь так быстро удирали, что не успевали снимать ботинки с убитых солдат.
Теперь нам стали приносить обмундирование. Прямо в камеры. Мятую, рваную одежду, часто выпачканную кровью. Бритвенными лезвиями мы распарывали ее по швам и сортировали хорошие и плохие куски. Отходов получалось, естественно, значительно больше, чем годного материала. Скорее всего, эта работа имела целью просто занять нас. Никто нас не контролировал, и охранники были довольны, видя, что груда одежды, брошенная нам утром в камеру, к вечеру превращалась в гору лоскутов. Только потом я задумался над тем, каковы должны быть потери немцев, если в каждую камеру ежедневно приносили кучу одежды, снятой с убитых.