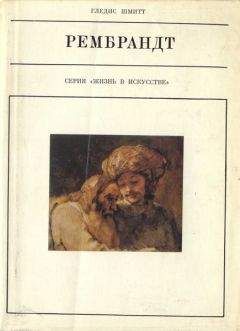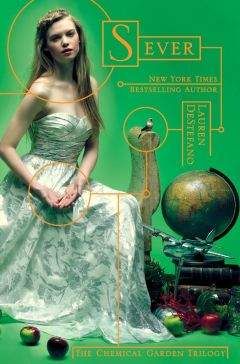Госпожа ван Хорн отвернулась от мольберта и протянула мастеру руку.
— Итак, не забудьте: двадцать девятого сентября, вечером, вы у нас по случаю именин Алларта, — сказала она и взяла сына за руку, давая тем самым понять, что Ластману нет нужды провожать ее до дверей. — Но это, конечно, не значит, что мы не надеемся видеть вас у себя задолго до этого дня. Идем, Алларт, только не забудь взять перчатки и шляпу. Еще раз благодарю, господин Ластман. Спокойной ночи!
Оставшись один, художник опустил плечи и опять побрел туда, где сиротливо стоял пустой мольберт лейденца. А вот и он, растерзанный, выброшенный, как негодная бумажка, рисунок, валяющийся на полу среди обломков сангины и перемазанных в краске тряпок. Что-то надо сделать — нельзя же уйти и оставить его в мусоре. Ластман подобрал и расправил набросок, затем поневоле взглянул на него — надо проверить себя. Но теперь он уже не мог трезво судить о рисунке. Лист был разорван от правого верхнего угла до самого лица старика натурщика, сангина размазалась на складках бумаги, но все эти повреждения лишь придали наброску какой-то обескураживающий пафос, наделили его вневременной и тоскливой достоверностью.
От этих гнетущих размышлений художника избавил Виченцо, зашедший узнать, сколько гостей ожидается сегодня к ужину. Называть громкие имена гостей слуге, который пересчитывал их, загибая пальцы, обсуждать с ним меню ужина и самолично выбирать вина было так отрадно, что, когда Ластман отдал последние распоряжения, скомканный рисунок уже казался ему чем-то чуждым и далеким от мира, в котором жил он сам.
— Возьми это и положи в большую папку в приемной, — приказал он, и как только слуга унес рисунок, не удержался и вытер кончики пальцев о каштановый бархат камзола.
Ему давно пора прижиться здесь, в доме господина Ластмана, убеждал себя Рембрандт, лежа у себя на мансарде и глядя на четыре больших окна, тяжелые стекла которых казались туманными и пузырчатыми в свете августовской луны. Ему давно пора привыкнуть к выбеленным стенам, к шести выстроенным в ряд кроватям, сундукам, корзинам с крышками и стульям, аккуратно расставленным между ними, к навощенному дощатому полу и легкому наклону потолка. На все это он должен обращать не больше внимания, чем на давно знакомые предметы, окружавшие его дома. Но они продолжают вторгаться в его сознание, и даже умывальник, вешалка и шкаф, которыми он пользуется каждый день, до сих пор кажутся ему такими же чужими и неправдоподобными, как вещи, нарисованные неодаренным ребенком.
За стенами дома лежал город с кольцами бесчисленных каналов, с тесно прижатыми друг к другу домами, великолепными шпилями и широкими, окаймленными деревьями улицами, но и он, несмотря на все попытки вжиться в него, оставался для Рембрандта непостижимым и призрачным. Юноша успел сделать многое из того, о чем мечтал: видел сотни картин, не раз посетил аукционы, побывал на пристани и даже купил себе там лакированную японскую шкатулочку; но, насколько помнится, он всякий раз чувствовал себя так, словно не принимал участия в том, что происходит вокруг, а лишь смотрел на все со стороны. Более того, по временам ему кажется, что после отъезда из Лейдена он стал далек вообще от всего, что и в мастерской и здесь, на мансарде, он отчужден от мира, как глухонемой, что никогда еще он не был так одинок, так оторван от родной почвы, как теперь.
Эту отчужденность было бы легче переносить, если бы он мог замкнуться в себе, если бы ему не приходилось впервые в жизни постоянно общаться с чужими людьми. Дело тут не в том, что ученики живут в тесноте: мансарда в доме Ластмана просторная, в ней хватит места и не на шесть человек; к тому же Алларт уходит теперь домой после ужина, и в комнате совсем свободно. И все-таки здесь нельзя уединиться, здесь не найдешь отгороженного уголка, где человек мог бы счистить с куртки позорные пятна лазури, встать на колени и помолиться или хотя бы спокойно подумать. А Рембрандт привык думать — особенно обо всем, что огорчало его, — на безлюдном просторе дюн, где гуляет только ветер. Здесь же ему сегодня за весь вечер не представилось случая поразмыслить о своем столкновении с учителем: за ужином шла обычная болтовня; после ужина, на прогулке, за ним увязались Ларсен и Хесселс. Даже теперь, когда они уже легли и, как он надеется, замолчали на целую ночь, он не в силах избавиться от неприятного ощущения — ему чудится, что либо тот, либо другой не спит и вглядывается в темноту, пытаясь уловить выражение его лица.
Впрочем, все это выдумки, никто его не видит: лунный свет, падающий через большое высокое окно, что напротив его постели, едва достигает его ног. Справа лежит Ян Ливенс, но тому вряд ли придет в голову следить за соседом — у Яна своих огорчений довольно. Кровать Халдингена пустует: как всегда по средам, малый проскользнул мимо гостей учителя, сидевших за трубками и вином в большой гостиной, и удрал на свидание с соседской служанкой. Чуть дальше, за несмятой постелью Халдингена, смутно белеет в тени тело Ларсена — он спит голым поверх простыни. Конечно, это грубая и непристойная привычка, но что поделаешь: как ни умеренно нидерландское лето, для датчанина здесь все же слишком жарко — его долговязое, всегда исходящее потом тело даже во сне протестует против жары. Теперь, когда Алларт ночует дома, малыш Хесселс оставил прежнее свое место под скатом крыши и перебрался на постель слева от Рембрандта, чтобы не раздражать остальных — они недовольны тем, что во сне он хнычет и вспоминает о маме, Кати и Дордрехте. Но Рембрандта тоже злят его ночные тревоги — он и сам не чужд этой заразительной тоски по дому.
Когда вокруг столько чужих тел, поневоле будешь благодарен учителю за его фанатическую приверженность к чистоте. Мансарду постоянно проветривают, скребут, обметают; каждую неделю все принимают ванну, ежедневно моют лицо, руки и под мышками. Поэтому в комнате ничем не пахнет, если не считать аромата сухой лаванды, которой перекладывают простыни в комоде, да дразнящего запаха гуся — его жарят в кухне для гостей.
Мысль о шипящей на огне птице и взрывы смеха, доносившиеся сюда через смежные комнаты, лишь усугубляли гнетущее чувство одиночества. Сейчас, когда внизу, куда был закрыт доступ ученикам, кипело веселье, юноше казалось, что учитель особенно далек от него.
— Рембрандт, — шепотом окликнул его маленький Хесселс.
Юноша промолчал.
— Ты спишь, Рембрандт?
Голос у Хесселса все еще высокий и тонкий, как у девочки.
— Да, сплю. Зачем ты будишь меня? Почему не лежишь спокойно? Постарайся лучше уснуть.
— Я старался, но ничего не выходит.