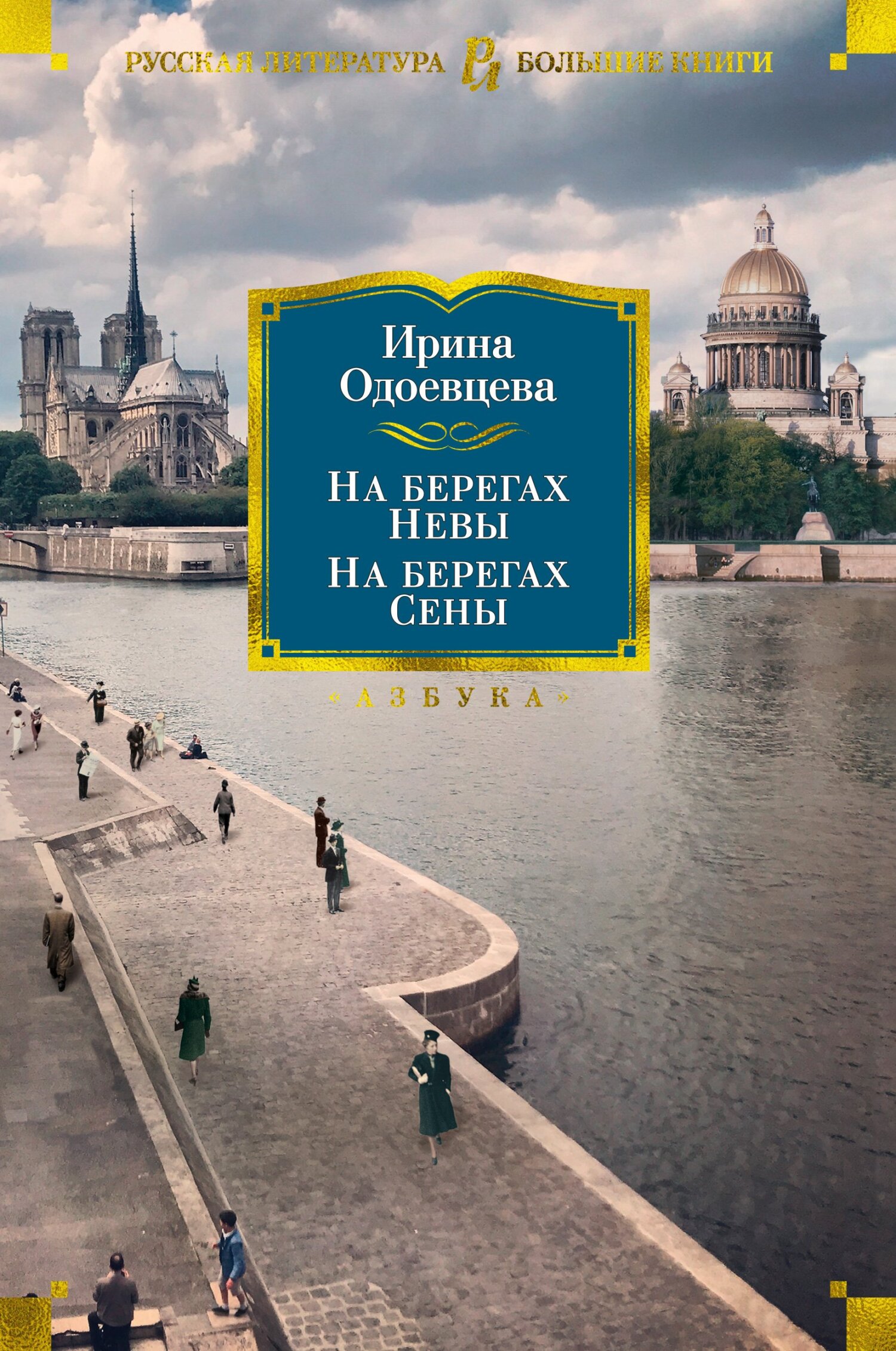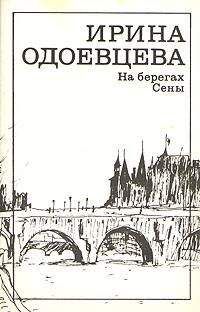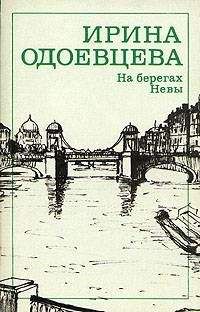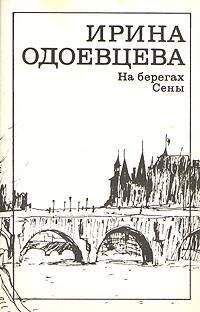мешало жить.
Он быстро поправился, казалось, что теперь он совсем другой и новый. Глядя в зеркало, он не узнавал себя – вытянувшегося, тощего, с круглой стриженой темноволосой головой. Ему казалось, что он не прежний Юрочка, а новый Юра, что Юрочка умер в ту ночь, а место его занял Юра.
– Знаешь, – говорил мне Георгий Иванов, – я уверен, что если бы у меня не было тогда воспаления легких, я бы не перенес смерти отца. Я бы зачах от горя, от тоски по нем. Меня спасло то, что я сам чуть не умер, что жизнь во мне переборола смерть. Я смог снова жить и, когда я совсем поправился и меня отдали в корпус, стать обыкновенным мальчиком-кадетом.
Так кончилось его детство и началось отрочество.
С первого дня поступления в корпус Георгий Иванов – Юра, как его теперь звали, – почувствовал себя в нем очень хорошо. Он сразу сошелся с товарищами и был принят ими как свой, что редко кому удавалось. Обычно «новичку», не говоря уже о разлуке с родными, приходилось в первые дни терпеть немало огорчений, неприятностей и обид, пока он наконец не «приспосабливался» к условиям корпусной жизни и не был принят, как равный, товарищами.
Но Юру все сразу полюбили, и одноклассники, и воспитатель. И он сразу полюбил всех.
Казалось, он, выросший на полной свободе, должен был бы тяготиться дисциплиной и кадетской муштрой, но он сразу почувствовал себя в корпусе дома. Корпус на много лет стал его настоящим домом, его настоящей семьей. Он по субботам, уходя в отпуск, покидал его не без сожаления и с радостью возвращался в него в воскресенье вечером. Для него быть оставленным без отпуска – за шалости и проказы – было не наказанием, как для его товарищей-петербуржцев, а наградой.
Правда, его отпуска не приносили ему удовольствия. Мать и Наташа, ставшая курсисткой, переехали в новую, комфортабельно обставленную квартиру и зажили в ней, не мешая друг другу, – мать, как в былые времена, элегантная и моложавая, опять ездила в оперу и в гости. Все как будто наладилось без осложнений к общему благополучию.
Но Юра чувствовал себя в этой новой квартире чужим. И мать, и Наташа считали нужным, отказавшись от своих обычных выходов, проводить весь его отпуск с ним, стараясь создать «семейный уют», что им совсем не удавалось. К тому же они все еще называли его Юрочка и обращались с ним, как с маленьким. Время тянулось томительно медленно и скучно. Иногда – не очень часто – Наташа водила его в кинематограф на комические фильмы. К Глупышкину и Максу Линдеру Юра был равнодушен, хотя они все же, хоть отчасти, скрашивали его отпуск.
Но его отпуска стали еще непригляднее, когда Наташа решила закончить свое образование в Швейцарии и перебралась туда, а мать, не переносившая одиночества, стала разъезжать по своим иногородним друзьям, поручив Юру своей кузине Варваре, жене егермейстера Малама. Та взялась за порученное ей дело со свойственными ей энергией, авторитетностью и чувством ответственности, обнаружив при этом педагогические наклонности, не находившие прежде – она была бездетной – применения.
Тетя Варя, как он ее звал, строго следила за ним. Она, чего не делали ни его мать, ни Наташа, стала ездить в корпус, не пропуская ни одного приема, познакомилась, интересуясь его школьными успехами и неуспехами, с его учителями и воспитателем, относившимися к ней с глубоким почтением.
Юра терпеть не мог и стыдился ее посещений, обставленных с театральной пышностью, вызывавшей в корпусе своего рода сенсацию, – она приезжала неизменно в дворцовой карете и «шествовала» в актовый зал. За ней шагал слуга в ливрее, несший кульки с фруктами и сладостями. Юра, сидя рядом с ней, проводил мучительнейший час до ее столь же пышного отбытия.
Жила она вместе с мужем-егермейстером в доме Министерства внутренних дел, на Моховой, где ему приходилось теперь проводить свой отпуск. Она уже с нетерпением ждала его – опаздывать не полагалось – и сейчас же начинала донимать его расспросами и поучениями. После чего засаживалась с ним за урок английского языка. «Знание английского языка необходимо порядочному человеку, – повторяла она постоянно. – Я твоя тетя и желаю тебе добра. Не ленись».
Но все ее усилия не привели ровно ни к чему. Говорить по-английски он так и не научился.
Время у Малама тянулось для него еще более скучно и медленно, чем у матери. К чаю обыкновенно являлся в домашних ковровых туфлях живший с Малама на той же площадке министр Щегловитов. Он трепал Юру по плечу и, задав ему все тот же вопрос: «Ну как, сын Марса? Финансы поют романсы?» – засовывал ему трехрублевку в карман.
Эта необычайная щедрость и ласковость к чужому мальчику, когда Георгий Иванов рассказал мне о ней, удивила меня. Я знала от моего двоюродного брата-правоведа, жившего вместе с сыном министра, что к своему собственному сыну Щегловитов был не только страшно строг, но просто жесток.
У Малама жила двоюродная бабушка Юры, очаровательная тоненькая старушка, голубоглазая и беленькая, похожая на фарфоровую статуэтку. Она была совершенно слепая и не выходила из своих двух комнат, в которых за тонкой проволочной решеткой пели и летали десятки канареек. При ней неотлучно находился маленький казачок, читавший ей «Новое время» – от доски до доски, – вряд ли понимая хоть что-нибудь.
Она, сидя в большом кресле, мечтательно устремив невидящие голубые глаза на заливавшихся канареек, слушала его не перебивая, но тоже вряд ли понимала, что он ей читал.
Юре полагалось на время пребывания у Малама ежедневно «свидетельствовать ей свое почтение». Она принимала его улыбаясь, ласково гладила по лицу своими тоненькими пальчиками, называя его «мой милый внучок Юрочка». Но что друг другу сказать – ни он, ни она не находили. И он, покрутившись немного вокруг нее, оглушенный трелями канареек, целовал ее руки и, произнося, как его научила тетя Варя, «честь имею кланяться, бабушка», покидал ее.
Кстати, история этой его бабушки, как, впрочем, и всех почти членов его семьи, была необычайна и любопытна. Ее Георгий Иванов рассказал в одной из тетрадей «Возрождения» в 1951 году под заглавием «Из семейной хроники».
По воскресеньям у Варвары Васильевны бывали журфиксы. На них, чтобы