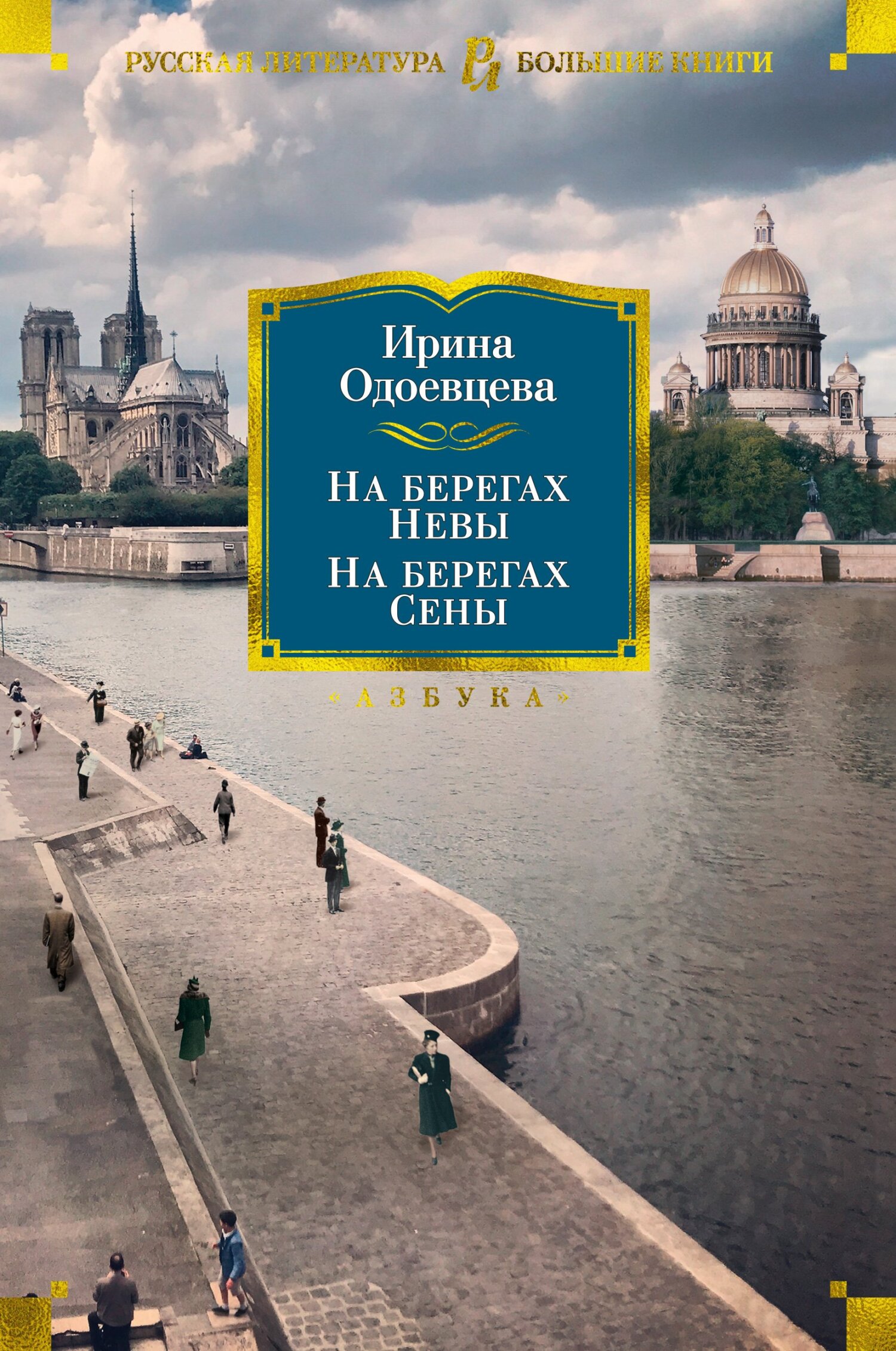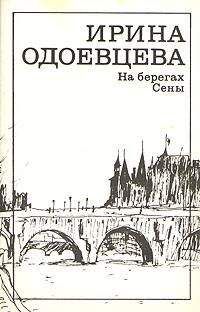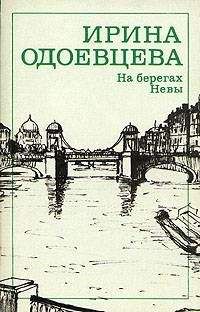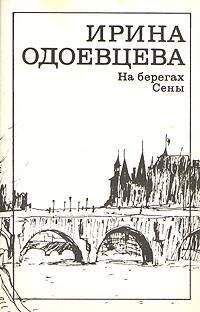Нам пришлось пойти на общий осмотр. Георгий Иванов тянул меня назад: все равно не примут. Но мы прошли. Нас устроили в старческом доме в Йере на юге Франции. Это был очаровательный городок. Наш дом был окружен пышным садом с розами и соловьями. Мы могли наконец вздохнуть свободно.
Но от всего пережитого у Георгия Иванова страшно повысилось давление, хотя сердце было здоровым. И оказалось, что южный климат ему вреден. Мы хотели переехать под Париж, но из Ганьи, несмотря на врачебное свидетельство, нам ответили, что Георгий Иванов просто скучает по прежнему окружению и что они не могут нас принять. Никто нас не поддержал и не помог ему, чего он никак не мог пережить. Давление все повышалось, стало сдавать сердце…
Через три года он умер на больничной койке, чего всегда боялся.
В предсмертных стихах он писал:
Отчаянье я превратил в игру — О чем вздыхать и плакать в самом деле? Ну, не забавно ли, что я умру Не позже чем на будущей неделе? Умру, – хотя еще прожить я могЛет десять иль, пожалуй, даже двадцать. Никто не пожалел. И не помог. Ну как тут можно не смеяться.
Август 1958
И еще:
Ночь, как Сахара, как ад, горяча. Дымный рассвет. Полыхает свеча. Вот начертил на блокнотном листке Я Размахайчика в черном венке, Лапки и хвостика тонкая нить… «В смерти моей никого не винить». * * *
Я познакомилась с Юрием Анненковым еще в Петербурге зимой 1920 года. Он достиг тогда апогея своей известности. Не только известности, но и славы. Тогда-то он и создал портреты почти всех писателей, живших в те времена в Петербурге. Большинство портретов было превосходно, особенно Сологуба, Ахматовой и Замятина, – каждый по-своему. Он сумел передать не только внешность моделей, но и их характеры, их внутренний мир.
Были среди них и менее удачные, как, например, портрет Олечки Судейкиной, не передающий ни ее внешности, ни присущей ей воздушной, немного кукольной прелести, или Георгия Иванова, слегка похожий на шарж. Мне, с моим портретом, заказанным Блохом (изд-во «Петрополис») для «Русских писателей», не повезло. Он настолько не удался, что Блох отказался его поместить. Анненков начал рисовать меня вторично, почти накануне моего отъезда из Петербурга, и не успел закончить. Так я осталась без портрета в «Русских писателях», о чем до сих пор жалею.
Да, Анненков в то время действительно был знаменит и прославлен. Особенно в кругу нэпманов. При мне одна молодая, чрезмерно нарядная нэпманша, случайно появившаяся в Доме литераторов, громко рассказывала своей приятельнице, что ее муж в виде именинного подарка предложил ей на выбор кольцо с бриллиантом, соболий палантин или ее портрет работы Анненкова.
– Ну конечно, я не такая простофиля – я выбрала портрет Анненкова. Разве бриллиант или соболя могут идти в сравнение с таким произведением искусства? – говорила она. – Только боюсь, сумеет ли муж уговорить Юрия Павловича. За ценой муж, конечно, не постоит. Но Юрий Павлович завален заказами. Ведь он даже Ленина и Троцкого писал. Ах, это такой талант, такой талант!..
Анненков в те дни действительно был «завален заказами». Во время сеансов, на которых я позировала ему, телефон, стоявший возле мольберта, почти беспрерывно звонил. Анненков, продолжая рисовать правой рукой, левой хватал телефонную трубку и кричал в нее:
– Нет, нет! Сейчас не могу. Занят по горло. Ни за какие деньги. Не могу. Сожалею, – и вешал трубку. – И чего пристают? – с недоуменным видом спрашивал он, поблескивая моноклем. – Какая-то просто бешеная мода у них пошла на мебель карельской березы и на мои портреты.
Работоспособность его была изумительна, как и его продуктивность. Но, несмотря на то что он трудился целыми днями, он ухитрялся всюду бывать и не пропускал ни одного литературного собрания или вечера. Знаком он был решительно со всеми поэтами и писателями и с многими из них дружил.
Маленький, подвижной, ловкий, всегда оживленный, с моноклем, как бы ввинченным в правый глаз, во френче полувоенного образца, он проносился по Дому искусств и по Дому литераторов, успевая всех повидать, со всеми поговорить и посмеяться.
Гумилев, глядя на него, только руками разводил:
– Ртуть, а не человек. Какую ему Бог дьявольскую энергию дал. Просто зависть берет. Ураганную деятельность развивает. И на все время находит. Даже на стихи.
Стихи Анненков действительно писал. Очень хорошо сложенные, авангардные стихи, оригинальные и ритмически, и по содержанию. У меня долго хранилась подаренная им маленькая книжечка его стихов с его собственными иллюстрациями – в кубофутуристском стиле. Но сам он себя поэтом отнюдь не считал, относясь к своим «поэтическим упражнениям» как к «забавному озорству».
В эмиграции Анненков продолжал проявлять – почти до самой смерти – все ту же «ураганную деятельность». И уже не только как художник, но и как театрально-кинематографический декоратор, и как писатель, и художественный критик.
Перед войной, под псевдонимом Темирязев, появилась его большая сюрреалистическая «Повесть о пустяках», пользовавшаяся большим и вполне заслуженным успехом. А в 1966-м он выпустил два толстых тома «Дневника моих встреч» с подзаголовком «Цикл трагедий». И действительно, судьбы поэтов, писателей и актеров, этих «детей страшных лет России», о которых так живо, красочно и талантливо рассказывает Анненков, почти все трагичны. Единственное исключение – судьба Алексея Толстого, «рабоче-крестьянского графа», баловня самого Сталина.